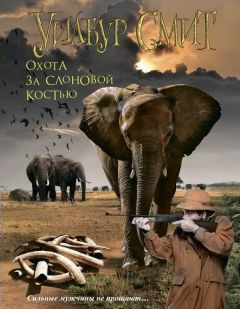— Убейте его, — коротко приказал Джонни на языке синдебеле.
Хотя неродившийся слоненок, конечно же, не мог чувствовать боли, Дэниел неожиданно отвернулся, увидев, как один из раздельщиков отрубил маленькую голову одним ударом панги. Дэниела чуть не вырвало, но ведь при выбраковке ничто не должно пропасть даром. Кожа неродившегося слоненка благодаря высокому качеству ценится очень высоко, из нее потом сделают дамскую сумочку или портфель стоимостью несколько сот долларов.
Чтобы отвлечься, он отошел в сторону от места бойни. Теперь там валялись лишь головы этих огромных животных и горы блестящих внутренностей. В слоновьих кишках ничего ценного не содержалось — их оставляли на съедение стервятникам, гиенам и шакалам.
Самым дорогим трофеем, конечно же, считались бивни. Они до сих пор еще не были извлечены из гнезда окружающей их костной ткани. Раньше браконьеры и охотники предпочитали не рисковать и, как правило, не отделяли бивни от черепа убитого слона: один-единственный небрежный удар топором — и испорчена ценнейшая слоновая кость. Обычно дожидались, пока сгниет удерживающая бивень хрящевая оболочка. Через четыре-пять дней их можно будет просто вытащить, не оставляя никаких следов. Однако сейчас нельзя терять времени и пришлось-таки применить топоры.
За эту работу взялись самые опытные раздельщики — постарше, их густые курчавые волосы уже поседели. Присев на корточки в окровавленных набедренных повязках возле слоновьих голов, они принялись потихоньку постукивать по бивням своими древними топорами.
Пока они занимались этой кропотливой работой, Дэниел подошел к Джонни Нзоу. Джок навел на них видеокамеру, и Дэниел проговорил, повернувшись к нему: — Это была настоящая бойня.
— Да, но это необходимо, — согласился Джонни. — В среднем взрослый слон приносит нам три тысячи долларов, включая слоновую кость, кожу и мясо.
— Многим нашим зрителям ваш расчет, пожалуй, покажется циничным, особенно после того, как они увидели отбраковку, — возразил Дэниел с сомнением в голосе. — Вы, должно быть, знаете, что защитники животных ведут сейчас энергичную кампанию, дабы добиться занесения слона в Приложение 1 СМТИЖа — Соглашения о международной торговле исчезающими животными.
— Да, знаю.
— Если это произойдет, то продавать кожу, кость или мясо слонов, естественно, запретят. Как вы относитесь к такой перспективе, смотритель?
— Просто зла не хватает. — Джонни в ярости швырнул сигарету на землю и растоптал ее.
— Об отстрелах, подобных сегодняшнему, вам придется уже забыть, верно? — не отставал от него Дэниел.
— Ни в коем случае, — возразил Джонни. — Нам по-прежнему придется регулировать размеры поголовья, то есть по-прежнему отбраковывать. Правда, продавать продукты отстрелов мы уже не сможем. Они наверняка пропадут, а это страшное, преступное расточительство. Мы потеряем, миллионы долларов, которые в настоящее время тратим на содержание и расширение заповедников, на защиту животных, которые там живут…
Джонни внезапно замолчал, засмотревшись, как два раздельщика извлекли конец бивня из гнезда в губчатой «кости черепа и осторожно уложили кость на сухую коричневую траву. Один из них ловко вытащил нерв — мягкую серую студенистую сердцевину — из полого конца бивня. Затем Джонни продолжил: — Вот этот самый бивень позволяет нам оправдать существование национальных парков в глазах местных племен, живущих по соседству с дикими животными, которых мы здесь — от имени государства — охраняем.
— Непонятно, — отозвался Дэниел, желая, чтобы Джонни рассказал об этом поподробнее. — Вы хотите сказать, что местные жители против существования парков, против охраны животных?
— Нет, не против, пока могут извлечь для себя хоть какую-то выгоду. Если мы докажем им, что взрослая слониха стоит три тысячи долларов, что охотник, приехавший из-за океана на сафари, заплатит пятьдесят или даже сто тысяч долларов за то, чтобы увезти с собой голову буйвола в качестве трофея, если мы сможем наглядно продемонстрировать, что один-единственный слон стоит сотни, даже тысячи коз или тощих коров, которых они пасут целыми днями, и если они увидят, что какая-то часть этих денег перепадает и им, их племени, вот тогда они увидят смысл в охране диких животных.
— То есть вы хотите сказать, что у местных крестьян чисто меркантильный интерес?
Джонни с горечью рассмеялся.
— Охрана дикой фауны роскошь, которую могут себе позволить только высокоразвитые страны. Как и бескорыстную любовь к диким животным. Местные племена заняты тем, что борются за свое существование. Среднегодовой доход на семью здесь не превышает ста двадцати долларов в год, то есть десяти долларов в месяц. Они просто не могут забросить земледелие и скотоводство ради сохранения пусть красивых, но бесполезных диких животных. Чтобы выжить в Африке, те сами должны оплачивать свое содержание. На этой суровой земле бесплатного пансиона им ожидать не приходится.
— Просто, казалось бы, живя так близко к природе, местные крестьяне должны питать к животным какую-то любовь, что ли…
— Согласен, но любовь эта очень прагматична. В течение тысячелетий дикари, живущие в близком соседстве с природой, относились к ней как к неисчерпаемому источнику. Эскимосы охотились на карибу, тюленей и китов, американские индейцы — на бизонов. Они инстинктивно не злоупотребляли природными дарами, относились к ним по-хозяйски, чему мы так и не научились. Эти люди органично сливались с природой, но затем появился белый человек и принес с собой пороховой гарпун и винтовку Шарпа. Здесь, в Африке, цивилизация создала особые элитарные условия для белых охотников — специальные министерства по защите диких зверей, законы, по которым аборигены, охотящиеся на своей собственной земле, объявляются преступниками. Для горстки избранных создаются специальные условия — для того чтобы они могли наблюдать за дикими животными и восторженно умиляться.
— Вы рассуждаете как расист, — упрекнул Дэниел Джонни. — Старая колониальная система сохраняла диких животных.
— Так как же они не вымерли за тот миллион лет, что предшествовал приходу белого человека? Нет, политика колониальных властей в области защиты животных основывалась не на принципе сохранения, а на принципе протекционизма.
— А что, разве сохранение и протекционизм — не одно и то же?
— Нет, это разные вещи. Протекционизм лишает человека права пользоваться богатствами природы. Протекционисты считают, что нельзя убивать животных даже тогда, когда их существование угрожает выживанию всего вида. Если бы сегодня здесь находился протекционист, он не дал бы нам произвести отстрел, однако потом был бы недоволен последствиями своего собственного запрета, который привел бы к постепенному исчезновению всего поголовья слонов и даже гибели этого леса. Однако самая губительная ошибка старой колониальной системы в том, что коренное население лишено благ, которые приносит контролируемая охрана животных. Местные племена не получают своей доли при распределении доходов, и у них сложилось неприязненное отношение к диким животным. Исчез природный инстинкт управления природными богатствами. У них отобрали право управлять природой и заставили наравне с животными бороться за существование. В результате обычный средний африканец относится к диким животным враждебно: слоны топчут его сад, уничтожают деревья, которые он пустил бы на дрова; быки и антилопы поедают траву, на которой пасется его скот; его бабку когда-то утащил под воду крокодил, а отца разорвал лев… Так за что же ему любить диких животных?