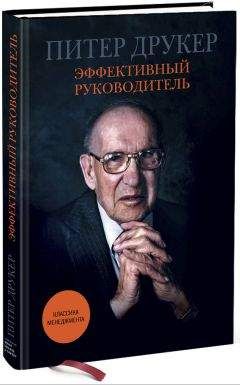Ни слова, ни звука. Каждый в торжественном молчании занимал свое место, садился или становился согласно со своим положением и рангом. Все было заранее обдумано, расписано и указано.
Точно устанавливалась хорошо разученная группа немого балета для какого-то апофеоза.
Принесли большого бронзового величавого Будду и поставили у ног покойника.
Наконец вышел очень старый, совсем дряхлый солдат и вытянул откуда-то снизу темный шнур.
— Боже мой! Какой ужас! — воскликнула, закрывая лицо руками, Фанни.
Томительная тишина царила кругом. Молча готовился старый Китай к таинству смерти.
— Идем, идем отсюда, — прошептал Иван Павлович. Но ни он, ни Фанни не трогались с места. Ужас сковал их члены. Едва заметным движением губ старый мандарин отдал приказание.
Солдат нагнул голову. Он медленно и спокойно достал спичечницу и стал разжигать фитиль…
Вот он приложил фитиль к шнуру, и белый дымок быстро побежал кверху в неподвижном воздухе.
Иван Павлович кинул последний взгляд на группу. Солнце бросало на нее прощальные кроваво-красные лучи. Все сидели и стояли в величавом покое. Ни на одном лице не было заметно волнения или страха. Даже дети не шевелились, если бы глаза не моргали, то можно было бы подумать, что это коллекция наряженных манекенов или восковых фигур.
Секунды шли. Белый дымок быстро бежал кверху, и с ним бежала смерть, приближаясь к этим людям.
Все это знали… И никто не боялся…
Вдруг маленький ребенок, сидевший внизу у ног старухи, жены фудутуна, капризно расплакался. Мать, молодая китаянка, нагнулась, подняла его на руки и стала качать, успокаивая.
Ни одно лицо ни у кого не дрогнуло.
Это было последнее, что видела Фанни. Иван Павлович схватил ее за руку и повлек за собой. Они выбежали за ворота на первый двор, прошли вторые ворота, где уже не было часового, и, пробежав через пустынную площадь, вошли в переулок.
В это мгновение страшный взрыв раздался сзади них и поверг их на землю.
Земля охнула и разверзлась. Со свистом и шумом полетели в небо тяжелые балки, громадные деревья, обломки стен, кирпичи и тела, тела…
Обрывки тел.
Безобразные «шидзы», стоявшие у входа в ямынь, сдвинулись со своего места и опрокинулись.
Старый Китай погиб…
Фанни сейчас же очнулась. Она была только повержена на землю, оглушена, но не ушиблена. Иван Павлович был зашиблен камнем в голову и лежал без движения. Кругом не было ни души. Все, что могло бежать, бежало дальше от страшного взрыва, от фонтана тел и обломков, тяжело падавших на землю. Суйдун точно вымер.
Ян-цзе-лин и реформированные войска притаились в своих казармах. Люди, бродившие по улицам, попрятались по фанзам.
Темная ночь наступила в могильной тишине притихшего в ужасе города.
Фанни сидела на земле, положив голову Ивана Павловича к себе на колени, и снегом оттирала у него с лица кровь. Страшные мысли неслись в мозгу Фанни: «Неужели он умер?» Теперь она стала понимать, что был для нее Иван Павлович. Теперь вдруг, над бездыханным телом его, она поняла, что он не дядя, не товарищ, не друг, но любимый, которому она готова отдать все, самое себя. Ей как-то раньше не приходила в голову мысль о его смерти. Теперь, когда подумала об этом, поняла, что тогда все пропало бы для нее, пропал бы самый смысл жизни.
Она нервно терла ему лоб и виски снегом, прислушивалась к нему с сильно бьющимся сердцем, осыпала его нежными ласковыми словами и звала его к жизни. Вдруг проснулось ее женское сердце, и любовь ее, давно накоплявшаяся в нем и тщательно маскируемая мальчишескими выходками, проявилась сразу, и Фанни давала обеты все сделать для Ивана Павловича, лишь бы он был жив.
— Боже, спаси его! — шептала она. — Боже, как тогда, во время погони, соверши, соверши чудо.
И то, что под снегом и льдом не холодела его голова, но становилась горячей, пробудило в ней надежду.
Наконец Иван Павлович вздохнул и очнулся.
Надо было нести его куда-нибудь, а темнота надвигалась. Их лошади и казаки остались на посту, где-то на окраине города, и где, Фанни не знала, и не могла бы найти дорогу.
Кругом не было ни души, а ей одной не поднять, не снести его… Да и куда? Страшный, только что совершившийся Китай, пугал ее.
Шли долгие минуты. Беспокойный пульс отбивал их частыми ударами в виски. Холодели руки и ноги, и ночной мороз дрожью охватывал тело.
— Фанни! Вы здесь… — послышался слабый голос. Иван Павлович зашевелился и приподнялся.
— Я здесь, мой милый. Как вы себя чувствуете?
— Ничего… надо идти. Вы мне поможете.
Он с трудом встал. Пошатнулся и снова сел.
— Темно в глазах. Голова кружится. Простите. Это сейчас пройдет.
Он сосал грязный снег и прижимал его к вискам.
— Вот и легче, — прошептал он.
Они пошли. Фанни вела Ивана Павловича. У него болела и кружилась голова. Приходилось часто отдыхать.
Темные улицы были пусты. Чудилось, что старый мандарин последним дозором обходил крепость. И казалось, что по улицам раздавался дробный и частый шаг мягких туфель носильщиков его паланкина и солдата.
Где-то завыла собака. Ей стала вторить другая, третья. Они почуяли покойников. Страшен был их вой в темноте ночи.
Старый Китай покончил с собой.
Наконец Фанни увидала стеклянный фонарь и дневального казака у ворот. Казак заботливо взял за талию Ивана Павловича и повел его с Фанни в ярко освещенную комнату постовой квартиры.
Хорунжий Красильников послал за фельдшером. Он все знал. Фудутун две недели тому назад решил это сделать. Молодец фудутун! Не сдался Ян-цзе-лину. Не поехал в Пекин к Юан-ши-каю.
Фельдшер осмотрел Ивана Павловича.
Ничего. Все благополучно. Нужен только покой. Поспать эту ночь!
Ивана Павловича уложили в постель Красильникова. Кровь с лица была отмыта, его напоили чаем, и он заснул спокойным крепким сном.
Маленькая лампочка горела в комнате. Для Фанни была отведена столовая, где Царанка приготовил ей постель.
Но ложиться ей было нельзя. Стол в квартире постового офицера был один, за ним сидел Красильников и, мусоля карандаш, строчил два донесения — одно в Кульджу, к консулу, другое — в Джаркент, в штаб бригады.
Совершенно готовые ехать казаки, в полушубках, при шашках и с винтовками за плечами, топтались у дверей.
Старый Китай умер, но какое до этого дело Европе? И лица казаков были спокойны и безразличны.
Фанни встала со стула, на котором сидела у окна, и на носках пошла в комнату, где спал Иван Павлович.
— Простите, — растерянно сказал Красильников, — я вам мешаю, я сейчас кончу писать…