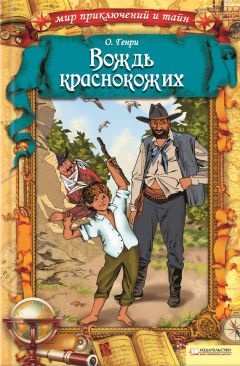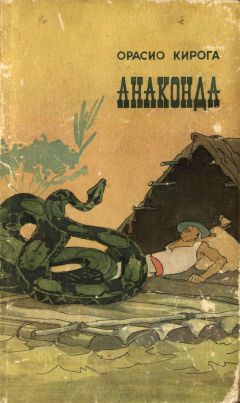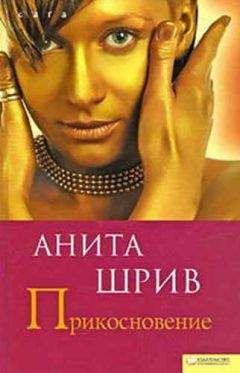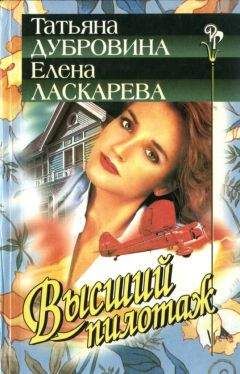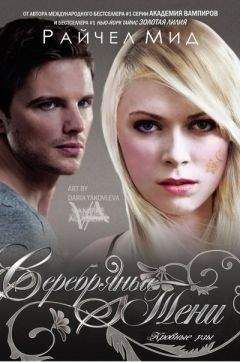Потолковали мы с самыми почтенными флоресвильцами, и тем эта идея пришлась по вкусу. По этому случаю был устроен роскошный банкет в пожарном сарае – и там мы впервые выступили в качестве меценатов и благодетелей человечества, поборников просвещения и прогресса. Энди даже сказал речь часа на полтора об успехах орошения в дельте Нила, а потом завели граммофон, слушали духовные гимны и распивали ананасный шербет.
Словом, нас обуяло настоящее филантропическое безумие, и мы не теряли времени зря. Всех, кто был способен отличить молоток от косы, мы завербовали в рабочие и взялись за ремонт. Оборудовали лаборатории и классные помещения, потом отбили телеграмму в Сан-Франциско, и нам прислали вагон школьных парт, футбольных мячей, учебников арифметики, ручек, перьев, словарей, преподавательских кафедр, грифельных досок, учебных скелетов, губок, а к ним – двадцать семь мантий и шапочек для студентов старшего курса. Теперь у нас было все, что полагается иметь первоклассному университету.
Еженедельники печатали наши портреты, а мы тем временем отбили телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом шестерых профессоров: по английской словесности, по самоновейшим мертвым языкам, по химии, по политической экономии, по логике и еще одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно выдающимся живописцем. Банк гарантировал выплату жалованья – до восьмисот долларов в год.
В конце концов все у нас пошло на лад. Над главным входом появилась надпись, высеченная в камне: «Всемирный университет. Попечители и владельцы – Питерс и Таккер». И к первому сентября стали слетаться наши гуси-лебеди. Сначала прибыли профессора. Были они почти все молодые, очкастые, рыжие и обуреваемые честолюбием и голодом. Мы с Энди расселили их и стали поджидать студентов.
Те прибывали толпами. Мы разместили статьи об университете во всех газетах штата, и двести девятнадцать желторотых юнцов отозвались на трубный глас, призывавший их к бесплатному образованию. Они перелицевали и перетянули весь этот городок, как старый диван, и стал он – чисто твой Гарвард.
Студенты маршировали по улицам с университетскими флагами голубого с ультрамариновым цветов, Энди обратился к ним с речью с балкона гостиницы – словом, весь город ликовал.
Только пару недель спустя профессорам удалось загнать весь этот горластый народ в аудитории. Мы с Энди приобрели цилиндры и стали делать вид, что избегаем встреч с репортерами «Флоресвилльских новостей». У этой газеты имелся также фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице. Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, и я поднимусь да и расскажу какую-нибудь историйку.
Энди увлекся филантропией не меньше меня. Бывало, проснемся ночью и давай строить новые планы – что бы еще такого выдающегося нам предпринять.
– Энди, – говорю я однажды, – мы прозевали крайне важную вещь. Надо бы нам организовать для наших молокососов дромадеры.
– А что это такое? – вопрошает Энди.
– А это то, где спят, – говорю я. – Есть во всех приличных колледжах.
– Ты говоришь о пижамах? – удивился Энди.
– Нет, о дромадерах.
Мы не организовали никаких дромадеров. Я имел в виду такие длинные спальни в закрытых учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами. Теперь-то я знаю, что зовутся они дортуарами.
Да, сэр, не покривлю душой – наш университет имел неслыханный успех. Флоресвилль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылись новый тир, ссудная касса, парочка новых пивных. Студенты сочинили университетский гимн:
Ро, ро, ро,
Цы, цы, цы,
Питерс, Таккер
Оба молодцы!
Ва, ва, ва,
Pa, pa, pa,
Университету —
Гип, гип, ура!!!
Славный был народ, эти сосунки; мы с Энди гордились ими, словно сами произвели на свет.
Но вот как-то в конце октября приходит ко мне Энди и с задумчивым видом спрашивает, известно ли мне, сколько у нас капитала осталось на счету. Я говорю: по-моему, тысяч шестнадцать. А Энди на это говорит:
– Весь наш баланс на сегодняшний день составляет восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента.
– Как ты сказал? – реву я нечеловеческим голосом. – Неужели эти проклятые сыны конокрадов, эти дубоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи хвосты, эти куриные мозги высосали из нас такую прорву денег?
– Именно, – отвечает Энди. – Именно это я имею в виду.
– Тогда к дьяволу всю эту филантропию, – говорю я.
– Зачем же к дьяволу? – ухмыляется Энди. – Если заниматься филантропией на прочной коммерческой основе, она приносит неплохую прибыль. Я помозгую об этом на досуге.
Минула еще неделя. Беру я как-то ведомость уплаты жалования нашим профессорам и вижу в ней незнакомое имя: некий Джеймс Дарнли Мак-Коркл, профессор кафедры математики, оклад – сто долларов в неделю.
– Это что такое! – ору я. – Профессор математики с жалованьем пять тысяч в год? Как такое могло произойти? Или он, как домушник, влез в форточку и сам себя назначил на эту кафедру?
– Ничего подобного, – отвечает Энди, – я вызвал его из Сан-Франциско неделю назад. Занимаясь делами, мы совершенно упустили из виду кафедру математики.
– И превосходно! – кричу я. – На кой она нам сдалась? У нас капитала ровно столько, чтобы выплатить ему жалованье за две недели, а после того всей нашей филантропии будет та же цена, что девятой лунке на поле для гольфа.
– Вот это ты напрасно, – отвечает Энди. – Все еще может наладиться. Еще раз повторю – сдается мне, что, если правильно подойти к коммерческой стороне образования, картина быстро изменится. Недаром же все филантропы и меценаты – люди очень и очень состоятельные. Мне давно следовало углубленно поразмыслить об этом и сделать правильные выводы.
Мне ли не знать, что Энди собаку съел в вопросах экономики, поэтому я предоставил ему заниматься университетскими финансами. И правда: университет процветал как ни в чем не бывало, цилиндры наши лоснились, и Флоресвилль продолжал оказывать нам такие почести, будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие жулики.
Студенты по-прежнему наводняли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города, открыл крохотный игорный домик в каморке над конюшней и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже посетили его заведение и поставили доллар-другой на карту. В заведении было не меньше полусотни наших студентов, все они хлестали пунш и двигали по ломберным столам целые столбики синих и красных фишек.
– Черт побери, – заметил я, – эти безмозглые тупицы, охочие до бесплатной науки, щеголяют в шелковых носках и легко расстаются с такими деньгами, каких мы с тобой годами не видывали. Ты только взгляни, какие толстенные пачки купюр они извлекают из своих карманов!