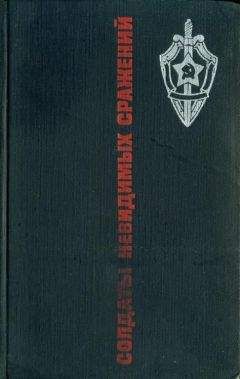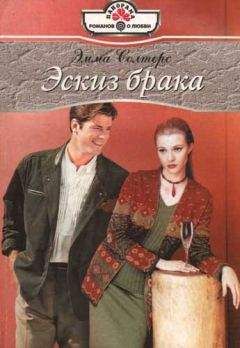По сравнению с уже знакомыми Павлу местами это местечко выглядело крайне неприветливо.
Провожатый показал на входную дверь. Вошли в нее.
По коридору прямо, потом направо.
Лестница, ведущая вниз. Ступени железные и узкие, как в машинном отделении корабля.
Один марш, другой, третий, четвертый…
Под первым этажом дома, оказывается, есть еще три. А может, гораздо больше. Они сошли с лестницы в коридор на третьем, но лестница опускалась глубже.
Стены бетонные, сухие. Пол покрыт мягкой, пружинящей под ногами дорожкой. С потолка льет белый люминесцентный свет.
Тихо так, что слышишь дыхание идущего впереди.
Справа двери, странные для дома, даже если он и подземный. Они были овальной формы. Ручки, как у холодильника. Поверхность — гладкая голубоватая эмаль.
Молодой человек, шагавший, как автомат, остановился у двери, на которой черной краской была выведена римская пятерка. Потянув за ручку, как за рычаг, он открыл дверь, и Павел удивился: она была толстая, будто служила входом в барокамеру, с резиновой прокладкой.
За дверью оказался просторный тамбур, а за тамбуром другая дверь, обычной формы, но узкая и с вырезом на уровне лица, прикрытым козырьком из пластмассы.
Провожатый нажал одну из многих кнопок справа от двери, она беззвучно ушла в стену.
Не дожидаясь специального приглашения, Павел ступил в открывшееся перед ним замкнутое пространство, а когда оглянулся, дверь была уже наглухо закрыта.
Не сразу можно было сообразить, что находишься в комнате.
Пол, стены и потолок были неопределенного мутно-белесого цвета. Такое впечатление, будто попал в густой туман или в облако.
В длину — десять шагов, в ширину — шесть.
На короткой стене прямо против двери на высоте пояса — полка, которая, по всей вероятности, должна служить кроватью. На ней резиновая надувная подушка.
В углу, слева от двери, в пол вделана белая изразцовая раковина. Из стены торчит черная эбонитовая пуговка, — вероятно, для спуска воды.
Больше ничего нет.
Свет — белесый, как стены, — исходит из круглого иллюминатора на потолке.
Тишина…
У Павла зазвенело в ушах. Он сел на пол, прислонившись спиной к стене.
Ждал ли он, что с ним произойдет когда-нибудь нечто подобное? Ждал, безусловно. Уж слишком гладко шло все до сих пор, невероятно гладко.
Он не был бы удивлен, если бы его посадили в тюрьму сразу по приезде. Это выглядело бы вполне закономерно. Более удивительно как раз то, что они так долго его не сажали.
Почему же его заключили в тюрьму именно сегодня, а не вчера и не позавчера? Имеет ли это какое-то отношение к результатам вчерашнего допроса?
А может быть, содержание в подземной тюрьме — обычная, предусмотренная правилами мера, применяемая к каждому, кто волею судеб вошел с хозяевами тюрьмы в контакт, подобно ему, Павлу?
Долго ли его здесь продержат и какой режим приготовили ему? Судя по общему стилю тюрьмы, его ждет нечто достойное космического века.
Но что толку гадать? Ему придется принять здешние условия, что называется, безоговорочно. Для этих людей он вне закона. Его можно уничтожить в любой момент, и никто никогда не сумеет узнать об этом.
Павел встал, подошел к полке, потрогал ее. Полка обита губкой, спать на ней будет не так уж жестко. Он ртом надул подушку, прилег, чтобы примериться. Ничего, сойдет. Правда, нет одеяла. Но если все время будет тепло, как сейчас, то одеяло не очень-то необходимо.
Неожиданно Павел почувствовал, что хочет спать. И не стал сопротивляться дремоте. Придется Леониду бриться самостоятельно, подумал он, усмехнувшись.
Какое сегодня число? 3 августа. 3 августа 1962 года…
Мать на даче, наверное, уже собирает понемножку черную смородину, варит варенье. Что-то делают товарищи? Думают ли о нем? Конечно, думают, что за вопрос! Но им труднее представить его мысленно — они не знают, где он, что с ним, не знают обстановки, его окружающей. А он все знает, ему легко представить их живо, как наяву. Вспомнилось почему-то, как по воле Дембовича он сидел под домашним арестом, под надзором у старухи, которую зовут неподходящим для старух именем — Эмма, и тогдашняя тоска показалась ему праздником.
3 августа, тридцать седьмой день его пребывания на чужой земле. Вернее, теперь уже под землей…
Его разбудила музыка. Духовой оркестр играл траурный марш. В первую секунду он подумал, что слышит оркестр во сне, но, открыв глаза и увидев себя в этой словно бы насыщенной белесым туманом камере, вспомнил, где находится, и прислушался. Траурная мелодия звучала тихо, но очень отчетливо. Павел попробовал определить, откуда исходит звук, встал, прошелся вдоль всех четырех стен и не отыскал источника. Звук исходил отовсюду, он был стереофоническим, и это создавало иллюзию, что музыка рождается где-то внутри тебя, под черепной коробкой.
Он попробовал зажать уши. Музыка стала тише, но все же ее было слышно.
Мелодия кончилась. Трижды ударил большой барабан — бум, бум, бум. И снова та же траурная музыка.
Павел начал ходить по камере, считая шаги. Досчитав до двух тысяч, сел на полку. Посидел. Потом прилег. Музыка не умолкала. Время от времени, через одинаковые промежутки, троекратно бухал барабан.
Он опять почувствовал дремоту и забылся.
Очнулся из-за легкого озноба. Хоть и тепло в камере, но без одеяла как-то зябко спать, непривычно. Траурная мелодия впиталась в него, и было такое чувство, что, выйди он сейчас наружу, все равно она будет звучать в голове, он вынесет ее с собой, он налит ею до краев, и сосуд запаян — не расплескаешь.
Павел одернул себя — не рановато ли психовать? Если это пытка, то она только началась.
Послышался посторонний звук.
Пластмассовый козырек, прикрывавший снаружи широкий вырез в двери, был откинут. На Павла смотрели спокойные глаза. Они исчезли, и в вырез вдвинулось нечто похожее на поднос. Павел вскочил, подошел и принял поднос из гибкого белого пластика. Он был голоден и обрадовался, что его собрались покормить, но содержимое подноса мало походило на съедобное. Со странным чувством глядел Павел на синюю булочку и на четыре синие сосиски. Поставив поднос на полку, он разломил булочку. Она была и внутри ядовито-синего цвета. Он отломил кусок, пожевал — по вкусу булочка была выпечена из нормальной белой муки. Пресновата немного, но есть можно. Сосиски тоже имели нормальный вкус. Но цвет, цвет…
Он съел все это, зажмурясь. Потом отдал через щель поднос и получил низкую широкую чашку с кофе. Кофе был настоящий, натуральный, натурального цвета.
Итак, теперь ясно, что ему предстоит: жизнь вне времени в обесцвеченной музыкальной шкатулке и причудливо расцвеченная пища. Это могли придумать только люди с воображением параноика.