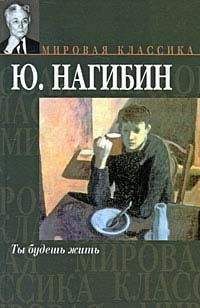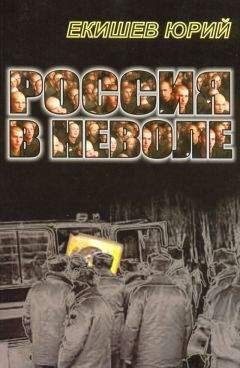Поначалу мне казалось, что я согласился на эту поездку бездумно. Впервые за очень многие годы я не писал несколько месяцев кряду. Пожалуй, с той самой поры, когда меня, семнадцатилетнего, постигла эта странная напасть, у меня не бывало столь долгого перерыва. Я писал, учась в школе и в медицинском институте, на войне и в госпитале после контузии, в поездках и на курортах, на охоте и на рыбалке. Хотя от вечного недовольства собой, от изнурительного сознания безнадежной отдаленности великих образцов я столько раз мечтал о том, чтоб перестать писать, не навсегда, разумеется, а на какое-то, быть может, и долгое, время. А после этого перерыва я стану писать меньше и лучше, лишь самое выношенное, отстоявшееся. Но я перестал писать не по сознательному решению, нет, это вышло само собой, без моего волевого участия. И когда мне предложили диковатую поездку в Молдавию с концертными выступлениями в Кишиневе и Тирасполе, я не колебался. Меня не смутило и то, что выступать мне придется в паре с профессиональной артисткой эстрады, исполнительницей устных рассказов собственного сочинения, и, естественно, я буду безнадежно проигрывать рядом с ней; что нам предстоит работать из вечера в вечер чуть не целую неделю, а это без привычки нелегко, и, наконец, что мне придется бубнить все время одно и то же, поскольку здесь исключена импровизация, скрашивающая обычные литературные вечера. Ничто меня не пугало и не заботило. Да и почему бы мне не заполнить пустоту внутри себя молдавскими впечатлениями? Там бывал Пушкин, там он написал «Черную шаль», «К Овидию», послания Давыдову, Чаадаеву; в Кишиневе, кажется, сохранился домик, в котором он жил, да хорошо полюбоваться и Днестром, попить домашнего вина в каса маре, так вроде называют красную горницу. Я и не заметил, как мое согласие обернулось посадкой в пузатый «Ан» на Внуковском аэродроме.
Столь же безмятежно состоялась в Кишиневе моя встреча с представителем филармонии.
— А где же ваша напарница? — спросил он. — Вы разве не вместе?..
— Она едет поездом.
— Почему?
— Не знаю.
— Может, она не переносит самолета?
— Право, не знаю.
Он как-то странно глянул на меня, и мы пошли к стоянке машин. Филармония прислала за мной громадный, видавший виды автобус, годный для перевозки целых концертных бригад, симфонических и духовых инструментов, включая грозные трубы-геликоны. Представитель сказал извиняющимся голосом:
— Не было другого транспорта. У нас много гастролеров.
Он что-то бубнил над моим ухом, то ли по поводу предстоящих выступлений, то ли о расстилающихся вокруг красотах, — за грохотом, звяком и лязгом старого пустого автобуса я не слышал ни слова. К тому же мне захотелось описать в уме внешность нашего водителя. Меня вдруг испугало, что я забуду его, как забываю сейчас всех встречающихся мне людей, как уже забыл самолетных спутников, как наверняка забуду представителя филармонии.
Водитель был юн, черен и смугл — настоящий молдаванин. Я пытался составить словесный портрет парня и не смог, у меня не оказалось образного материала, чтоб нарисовать излом его черных бровей, синеватые провалы щек под острыми скулами, узкий, темный язвительный рот. Я как-то сразу устал от всех этих усилий, меня даже в сон потянуло. Бог с ним, с водителем, пусть живет, как жил, не выраженный в словах!
Зачем обволакивать словами все, что попадает в круг зрения? И откуда возникла во мне эта дурацкая привычка? Я не мог вспомнить, когда точно это началось, но хорошо помню, что еще школьником, совершая свои обычные маршруты в окрестностях Чистых прудов, все время описывал про себя дома, деревья, трубы, тротуары, решетки, тумбы, возникающие на моем пути, лошадей, телеги, автомобили, дворников, их метлы и бляхи на груди, новых и примелькавшихся прохожих, вроде одного паренька с ярко-синими глазами и ныряющей походкой, напоминающей полет трясогузки. Это описание на ходу ничуть не утомляло меня, напротив — доставляло огромную радость, тем более что все маломальские удачи, попадания в цель намертво ложились в память и порой использовались в рассказах. Но, занимаясь беспрерывным воображаемым писанием, я не задавался практическими целями, а если так получалось, то непроизвольно.
Правда, в последние годы я нередко испытывал усталость и раздражение от безостановочного проборматывания окружающего. Собираешь ли грибы, ловишь ли рыбу, плывешь ли в челноке по весеннему водополью, таишься ли в скрадне с подсадной или топаешь по болоту за легашами, едешь ли по делам или ждешь на улице приятеля, чтобы посидеть с ним за кружкой пива, — все время лепишь слова, как пельмени, и проклинаешь чью-то ненасытность, не дающую тебе ни секунды передыху.
А тут, пожалуйста, можно совершить перелет Москва — Кишинев, перенестись из зимы в лето, стать пассажиром «отца всех автобусов», мчащегося по стройной аллее нежно изготовившихся к цветенью деревьев, сидеть за спиной юного смуглого красавца и не откликнуться всему этому ни единым словом, даже малой напряженностью того внутреннего устройства, что рождает слова!
Ладно, будем считать, что я получил заслуженный отдых, и надо хорошо им воспользоваться — едва ли он окажется длительным.
Солнце из-за деревьев бросало в автобус пучки светлого жара, а тень каждого дерева пересчитывала нашу гуськом сидящую троицу, отщелкивала, словно костяшки счетов, шофера, меня, представителя филармонии. Я хотел было узнать у моих спутников, как называются эти деревья, но вовремя спохватился. Зачем обременять память очередной ненужностью?
Мир и так стал чудовищно дробным, каждая малость в нем обрела свое наименование, а деление все продолжается. И когда ты попадаешь в новую даль, на тебя обрушиваются тамошние наименования, подавляя твою и без того обремененную память, и что же будет, если не прекратится это дробление вещей, явлений, понятий, пребывающих в мире?
Вселение в гостиницу всегда представлялось мне одним из самых волнующих ритуалов человечьего обихода. И дело не только в том, что получение номера — это маленькое чудо, улыбка жизни, подарок судьбы; но с новым жильем, пусть временным, ты обретаешь новые привычки, настроения, заботы, радости и огорчения; ты вступаешь в сложные отношения с незнакомыми людьми: администраторами, коридорными, уборщицами, соседями по этажу. Ты будешь заискивать перед дежурным администратором, чтобы он не переселил тебя в номер без ванны в связи с приездом хора Мичиганского университета или футбольной команды, ты будешь упиваться столь редко дающимся тебе одиночеством, полной свободой, мечтать, словно в твоем возрасте еще возможны сладостные неожиданности.
Но сейчас я не испытывал ни малейшего волнения. Я почему-то был уверен в получении номера и ничего не ждал от него, кроме минимума удобств. Я не собирался ни работать, ни мечтать, ни встречаться с людьми, ни даже очаровывать коридорных и горничных, чтоб номер убирали в удобное для меня время.
Пока выписывали квитанцию, я слонялся по вестибюлю, ни о чем не думая, ни к чему не приглядываясь; поворошил газеты с нерусским шрифтом на стойке у киоскера, хотел купить журнал «За рулем», но у меня не оказалось мелочи, а у киоскера сдачи…
Я поднялся на лифте, протянул квиток коридорной, получил ключ, тяжело заполнивший ладонь, погрузился в сумрак коридора, щелкнул замком и вышел в свет своего прекрасного номера.
За окном, глубоко внизу, были маленькие домики под черепицей, дворы, тронутые зеленой молодой травкой, абрикосовые, уже зацветающие деревья, мусорные ямы, глиняные щербатые заборы, женщины, дети, старики в овечьих шапках; дальше, к горизонту, разворачивались холмистые поля, посреди них серо пылилась площадка цементного завода. Я долго глядел в эту скучную и чем-то грустную даль, затем передний план пейзажа населился старухой с мешком за спиной. Она приблизилась к глинобитной ограде и форсировала ее, словно пехотинец бруствер; сперва метнула за ограду мешок, затем пала на нее животом, вскинула ноги и перевалилась на другую сторону. Все это было проделано с ходу, без колебаний и хоть малой задержки. Мне так понравилась решительная старуха, что захотелось, вопреки обыкновению последних месяцев, «уложить» в себя все виденное из окна: простор от двориков до цементного завода со старухой в качестве фигуры, не просто оживляющей, но дарующей жизнь пейзажу. Я начал складывать слова, и сразу мозг охватила тупая усталость. Я знал, что потеряю все это, если не закапканю словами, но голова стала как оловянная. Ладно, сказал я себе, впереди еще много времени, дворы и крыши останутся, и холмы, и цементный завод пребудут на своем месте, и еще какая-нибудь старуха, или старик в овечьей шапке, или другое доброе человеческое существо явит чудо своей неповторимой жизни за этим окном. И мои силки сработают…