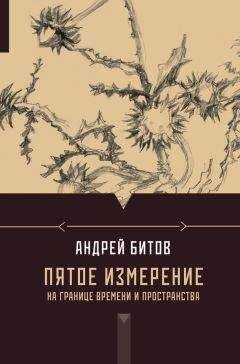И как, в таком случае, обстоит с Петербургом? На случай, если он утонет?
Как ни странно, несмотря на наличие великого образа, выстроенного Петром и Пушкиным, несмотря на всю «петербургскую линию» в русской литературе, культуре и истории, в «окно» это все еще слабо видно Европу, еще меньше, быть может, виден с Запада Петербург. Само собой: заглядывая в окно и выглядывая из окна, мы видим принципиально разные вещи. А образ на то и образ – вещь несущественная, нематериальная: ему отлететь едва ли не легче, чем потонуть городу.
В режиме советского времени, в сталинском загоне, культурное описание Петербурга-Петрограда-Ленинграда было остановлено, стало «дореволюционным», но и те книги не переиздавались; все, бессознательно и сознательно, склонялось к забытью. Забытье ведь – необходимое условие разрушения. Переиздание книг по Петербургу в последние годы гласности показало парадоксальную бедность ряда: Анциферов, Курбатов… Практически нет по Петербургу книг. Петербуржцу приходится заглядывать в то же мутное, непромытое окошко уже не Петербурга, а интуристского справочника, как и иностранцу. Оказывается, именно простую, а не гениальную работу сделать в России труднее всего. Чтобы точно, пропорционально, профессионально, а не только лишь тонко или блестяще.
Так что самое время, если уже не поздно, спешить описать Петербург.
Вопрос о том, сам ли пишет Соломон Волков, следует поставить иначе: сам ли он не пишет?
Действительно, что он написал сам?
Петербург есть, Ахматова была, и Шостакович, и Баланчин, и Бродский есть…
Но и русский язык был до Даля, Ушакова, Фасмера.
И пирамиды стояли до Шампольона, как продолжают стоять после него.
И стояли бы они без него, если бы его не было?
Ведь это именно он не дал их доворовать.
И где без Шлимана Троя?
Один стоит в камне, другой растворился в звуке, третий испарился в танце.
Это они ничего не написали сами.
Слишком популярной стала сентенция Булгакова, что «рукописи не горят».
Как только была опубликована. Словно она одна и не сгорела.
Не заговаривал ли автор свой роман этой колдовскою фразой? Не уговаривал ли?
Не умолял ли… но кого?
Никого рядом не было, кроме вдовы.
Где и как не сгорели «Воронежские тетради»?
О, вдовы!
Софья Андреевна, Анна Григорьевна…
Елена Сергеевна, Мария Александровна…
Надежда Яковлевна. Вот поворот.
Но ведь и Анна Андреевна – вдова!
Сама культура вдовствовала.
Мне уже приходилось писать о «Показаниях» Шостаковича в том смысле, что он почему-то именно Соломону Волкову их дал. И Баланчин никогда ни перед кем не «кололся»… В чем дело? Что, Соломон умнее, красивее, честнее всех, что ли? Один талант, возможно, есть: умение слушать. Более редкий, чем говорить и писать. И другой: рукопись у него не сгорит. Ему можно довериться, как вдове. Господи, как одиноки города и люди!
3 января, Переделкино
Ужель не хочет человек
Понять, что он из капли создан,
С Творцом торгуясь весь свой век,
Забыв, чьи есть вода и воздух?
Он предлагает притчи нам,
Как будто послан мимо цели, —
Кто может жизнь сухим костям
Вернуть, когда они истлели?
Создатель Неба! Ты один
Исполнен необъятным знаньем.
Ты – моей воле Господин,
И Ты – узда моим желаньям.
Иначе – только взблеск и вскрик
И помыслы мои иссякли…
Все это длилось сущий миг,
И бритва воплотилась в капле.
15 января, в самолете Москва – Берлин
Сталин – это Ленин, данный нам в ощущении.
Из Гегеля
Мне снится сон про вурдалаков:
Они – мои жена и дочь…
Сынок мой с ними одинаков —
Все перегрызлись в эту ночь.
Я осеняю их знаменьем
Неверной левою рукой…
Топор, как в масло, входит в темя —
И нету рядом отца Меня,
Чтоб отслужить за упокой.
Родителей… и иже с ними
(Кого любил, кого терзал…)
Уж «к легиону близко имя»,
«Как Сади некогда сказал»,
Или Христос, иль тот же Пушкин,
Подсчитывая песнь кукушки.
Перечитывая «Разгром» Александра Фадеева:
Ночь, водка… Червивеет небо и вера…
Как смерти личинки, шевелятся звезды.
И пишет он автопортрет револьвером,
Граненым мазком рассекая воздух.
И осыпается свет последний
От фейерверка Двадцатого Съезда.
Тусуются обок Фюрер и Ленин,
Льют памятники кровавые слезы.
И встреча последняя. Мы выпиваем
в трансильванском дворце
невиннейшего из вурдалаков…
Обсуждаем возможность
следующего симпозиума на тему
«Оклеветанный Дракула».
Много смеемся.
Я завидую твоей сигаре и блузе
и блеску глаз девушек,
поедающих тебя.
Ты спрашиваешь, о чем я думаю,
а я не думаю, а говорю:
– О соотношении живых и мертвых.
– Кес ке се?
– Кого больше? и что будет,
когда наступит равновесие
тех и других? —
Ты заинтересовался и повторял всем:
– Представляете, о чем он думает,
этот русский?! —
(И здесь, на этой строке,
не иначе как в твою честь,
я выронил стакан с водкой
из-за неверности все той же левой руки —
последствие скорее пареза, чем пьянства…
Я смотрел Ей в глаза за год до тебя —
но это ты – умер, а не я…)
«С утра выпил – весь день свободен» —
последняя советская пословица,
которая тебе так понравилась…
Это ты налил мне первую водку
и отговорил от второй.
Ты стоишь на крыле «Люфтганзы»,
на которой я лечу к мертвому тебе…
Пусть эта вторая, опрокинутая тобой, —
твоя!
Вот уж не думал,
как мы выпьем еще раз вдвоем.
Так скажи мне теперь,
кого больше,
живых или мертвых?
и не стало ли уже поровну?
По-египетски, по-пирамидски,
«жизнь» – это «мер»…
Вот нагл последний двойной виски:
русская «смерть»
и французское «мерд».
Что за сон мне приснился под утро,
под скребок рассветного курда?
29 января, Переделкино
…И если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.
Смерть поэта – это не личная чья-то смерть. Поэты не умирают. Власть – эта воплощенная трусость мира – оказала ему много милостей и почестей, обвинив в тунеядстве, сослав на Запад, как на химию, а затем не дав визы похоронить родителей.
Я боюсь 28-го числа по своим причинам и уже избегаю его. Как раз 28-го и случается все. 28-го, месяц назад, я вылетал из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сказал, что не успевает воспользоваться оказией. Рейс отменили. «Вот видишь, – позвонил я снова, – судьба предоставляет тебе оказию». Вышло, что оказия предоставлялась мне.
Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил (кажется, эти слова были обращены когда-то к Ахматовой) как заповедь, как зарок: «Величие замысла может выручить».
Он привиделся мне сегодня под утро. Будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи: «Будем менять». – «Нет, уж я лучше со своим».
Он мечтал быть футболистом или летчиком. Сердце не позволило ему, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей. А он не пустил в себя весь город. 28-е. И особенно 28 января. И особенно в Петербурге. 28 января умер Петр. 28 января умирал Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает «Двенадцать», перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Метафора остановилась, не выдержала. Поэт должен был осуществить выбор: умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце… Ему бы подошло сердце черного автогонщика, погибшего в катастрофе. Сам он не мог решиться. Ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Поэт умер вместе со своим сердцем. И нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий близнец, спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. 28-е… Эта дата насильно возвращает его на Васильевский остров в Петербург…
…в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
6 февраля, Москва
«ЭТОГО НЕ ХВАТАЛО!» – подумал я, узнав, что еще и Толик умер.
Он долго оправлялся после операции и не оправился: у него оказался рак.
Толик был мой сосед, муж моей домоправительницы.
Сколько лет я их знаю? Столько, сколько живу в этом доме у Трех вокзалов, в знаменитой «Рыбе».
Шестнадцать лет моя жизнь проходит у них на глазах. Ихняя, соответственно, на моих. За отчетный период умерли Брежнев, Андропов и Черненко, воцарился и был повержен Горбачев, распалась Империя и сверглась советская власть, выкарабкались из Афганистана и увязли в Чечне, а мы втроем производили бесконечные размены, так и не покидая нашей «Рыбы». Я менял свою однокомнатную на ее двухкомнатную смежную. Она меняла уже свою однокомнатную и комнату Толика на двухкомнатную раздельную. Я менял свою смежную на их раздельную, поскольку они наконец поженились и могли жить смежно, мне же необходимо было забрать к себе маму, и раздельность была желательна. Потом не стало мамы, а они развелись, и она пришла ко мне с обратным предложением, поскольку двухкомнатную смежную на две раздельные жилплощади никак иначе, как со мной, ей было бы не разменять, но я уже никак не мог на это пойти. Мы приватизировались, и ходов в этом домино больше не было – «рыба». Фактически почти родственники…