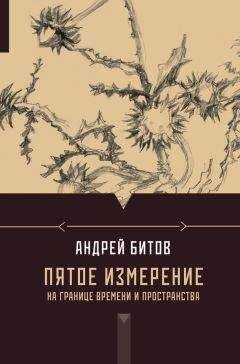В Москву рисковали поодиночке, Москва же высаживалась десантом. Вон она шествует шеренгой от «Октябрьской» до «Европейской», в распахнутых, как у Ленина, плащах: Окуджава, Войнович, Икрамов, Галич… кто там еще? – кто их собрал? кто «стрелу» оплатил? чем это они так прославились? Ума не приложу. Всей-то славы: авторы «Синтаксиса», машинописного издания, за который Гинзбург-составитель еще не сел, но – сядет.
Значит, дата уже другая: шесть-ноль, шестидесятый, шестидесятники…
Очень много еще сядет, уедет, сопьется, умрет, чтобы их сегодня все ругали, потому что они именно этого и добились и, может, одно это и обеспечили – чтобы о них вытирали ноги. Именно за это им честь и хвала.
Очень уж это невкусно: ноги мыть и воду пить.
«Тарусские страницы»… Корнилов, Максимов… читали?
Хрущев не только зэков, он еще и славу выпустил на волю. Как же она гуляла!
Не в свободе печати, а в свободе славы, оказывается, дело. Когда ты сам ее раздаешь.
Когда ты выбираешь кому.
Но это же и отрава. Причастность. Одно дело – вдохнуть славу как свободу, другое – так ее и не выдохнуть. Асфиксия шестидесятничества передается до сих пор по наследству.
Первым об этом мне сообщил Максимов: «Умному человеку достаточно достигнуть славы в областном масштабе, чтобы не стремиться к ней в мировом».
Легко сказать!..
Экспресс «Таруса – Париж».
Только что расправились с Пастернаком, так и не раскусив, кто это такой. Шолохова раскусили. Правда, Ахматова еще была жива. Но еще не было ни Солженицына, ни Бродского, и про Набокова не слыхали. Страна жаждала гения. Не была ли то сталинская инерция? – непременно занять пустующий пьедестал… Свобода слова оказалась скованной именно монументальностью роли писателя едва ли не больше, чем идеологией. Загнав вольную русскую классику XIX века на школьную скамью в качестве членов Политбюро, наша пропаганда достигла большего, чем примитивным удушением современной словесности. Толстой с Достоевским оказались виноваты. Раскаялись и дали на себя показания. Практически добровольно, ибо не заготовили себе защитительной речи. «Кто знал?..» – вот название для русского романа вместо «Кто виноват?». Четверть века спустя мы обсудим с Володей эту тему не то в Страсбурге, не то в Париже. Ну почему, почему наша великая литература ни разу не осилила тему русской, именно русской, литературной амбиции? Какой типический, какой хронический герой оказался упущен! Достоевский мог бы… но сам им стал. Когда и как роль литературы была подменена ролью в литературе? С каких пор пьедестал стал важнее текста? Почему до сих пор, когда литература, по авторитетным заявлениям, кончилась, рождаются еще более амбициозные претенденты на свергнутую роль? Не Пушкину ли внушали, что в России писатель может сделать не меньше, чем Петр Первый? Пушкин, положим, справился, оставшись собою.
С тех пор наши писатели все больше утрачивали себя, становясь героями, образами и персонажами отечественной литературы, как бы прекрасно иные из них ни писали. Роль или кабала? Кажется, Иосиф вышел из положения.
Вот о чем мы в последний раз поговорили, посасывая не то абсент, не то перно. Раньше-то мы водку стаканами пили… когда я залезал к нему в окно… жил он тогда в деревянном, дровяном домишке, где, пожалуй, двор был и впрямь посреди неба… ты там финал «Семи дней творения» вслух Булату читал, и я там был… и мне вдруг показалось, что такой голой, такой глагольной прозы еще никто не писал… Так глух был твой голос, так изящен жест твоей изуродованной руки, и был ты красив, как вор, как урка, обуглен и тощ… Или вот еще помню… до дому было уже не дойти… нас спасла красавица бурятка, отвела к себе… очнулись мы от твоего истошного крика… ты открыл не ту дверь и наткнулся не то на мамонта, не то на саблезубого тигра… мне тоже показалось, что это белая горячка… но хотя бы она не бывает коллективной, а реализм бывает иногда спасительным… то был черный ход в зоологический музей, к которому непосредственно примыкала пещера нашей красавицы!
Мой семилетний сын на днях спросил: «Папа, а когда ты был маленьким, динозавры еще были?»
Были, сынок…
Ему-то что. Он составил свою классификацию Истории: Эпоха Динозавров – Первый Век – Эпоха Революции – Эпоха Трансформеров.
Господи! какими мы были и какими мы стали! чтобы одутловато потягивать в Париже перно!.. «Я умираю. Россия погибла…» – сказал ты в этом Страсбурге.
Я не был доволен подобным заявлением. «Надо уточнить последовательность», – не удержался я.
Выходит, я все еще не мог простить тебе, что ты, именно ты не напечатал мои ответы именно на эти вопросы (я или Россия?)… У нас это, естественно, нельзя было тогда напечатать. Но, оказывается, и у вас…
Переплетаю Век Двадцатый —
Зиянье вырванных страниц…
Десятилетья на заплаты
Уходят с прочерками лиц,
Убитых, спившихся, опальных,
Не описавших ничего —
Уходят… золотом сусальным
На оглавление его.
Век, как вдова, переживает
Мужей, любовников своих
И на детей перешивает
Все, что изношено у них.
Под траурною вуалеткой,
С облезлой муфточкой страстей,
В последнюю из пятилеток
Спешишь похоронить детей.
Ты выглядишь как настоящий
С керамикой и париком,
Но скоро сам сыграешь в ящик
Дветыщелетним стариком.
Врожденный идеал был крепок:
Плоть нанизалась, как шашлык.
Перерождение всех клеток:
Все было в строку этих лык…
И получился ты не нужен,
Никчемен. КТО тебя создал,
В Твореньи оказался сужен,
Поставил точку и сказал: —
Прости! Возился с бегемотом,
Увлекся натяженьем жил
И в завершенье той субботы
Ошибку Бога совершил.
Ты у Меня не получился,
Я пред тобой должник навек.
Но чтобы ты не устыдился
Происхожденья, Человек,
Я поручу тебе работу:
Стань сам таким, как Я хотел.
Сам выбирай себе охоту
И попотей, как Я потел.
Прошу тебя, будь человеком,
Как можешь. Богу помоги,
На Слово послужи Ответом,
Во Благо потреби мозги.
Не сотвори себе кумира,
Но лишь люби, как Я люблю —
В твоем подобье – Образ Мира,
И не скорби, как Я скорблю.
За безответственность всех тварей
Ответить суждено тебе…
Я – поручил. Не будь коварен
И следуй избранной Судьбе.
Не сетуй. Чувствуй Назначенье
Под грузом участи своей,
Молись – и будет облегченье
Тебе отдельно от людей.
Терпи, трудись. А Я – в ответе.
Тебе усердье – по плечу.
Что ты оплачешь в этом свете,
Я в Своем Свете оплачу.
Итак, до встречи. Я хотел бы,
Чтоб ты Мой Облик отыскал…
Я одинок. Здесь нет предела. И нет зеркал.
14 апреля
И надо было встать на Землю…
Ее безвидность с пустотой
Видна мне стала. Не приемлю
Я смерть. И свет планете той
Включил Я, отделив сначала
Лишь день от ночи. Чтоб отсчет
Продолжить. Чтобы отличалась
Твердь от земли, земля от вод.
Внушало, но не утешало
Меня Творенье. День за днем
Творил, но смерть не исчезала,
А все присутствовала в нем.
Пока возился Я меж гадами,
Любуясь детством рук своих,
Я был творцом всемирной падали,
И смерть торжествовала в них,
И силы были на пределе,
Противник был неумолим…
Так, по прошествии Недели,
Мой Сын вошел в Иерусалим.
Не сотворив себе кумира,
За те же дни, которых семь,
Пошел на разрушенье мира,
Провозгласив ему: «Аз есмь».
И напролом от смерти к Жизни
Ввел счет от первого лица,
Вернув утраченной отчизне Ее Отца.
И в стогнах Иерусалима,
Распявших Сына Моего,
Такая же окрепла глина,
Как и в Адаме до него.
Се Человек! И после Бога
Не остается ничего —
Дань восхищения немого
Опустошенностью Его…
6 июня
Немой размытой фильмы плеск:
Все тонет в стареньком тумане —
Забор, дорога, поле, лес
С коровой на переднем плане.
Жует корова по слогам,
Квадратно бьется пульс на вые,
И драгоценно по рогам
Стекают капли дождевые.
Никак мгновенье не поймать —
Так миг отрыва капли краток…
И, значит, это – аппарат,
И, значит, это – оператор.
Сосредоточен и красив,
Его волнует диафрагма,
Он заслоняет объектив,
Как сына старенькая мама.
Он так изображенью рад!
Его экран в заплатах манит…
За ручку водит аппарат,
Вот он уже киномеханик.
Никто кино смотреть нейдет,
Хоть фильма выше всяких критик.
Но кто-то сверху дождик льет…
И, значит, у него есть Зритель.
Из-за застрехи чердака,
Кривой из-за дождя кривого,
Смерть так понятна и близка —
Как расстоянье до коровы.