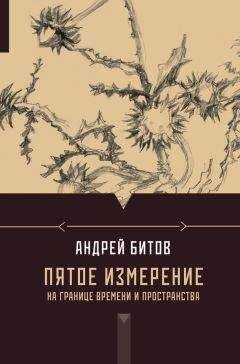Платонов не только заслужил такое издание, но и нуждается в нем. У иных, может быть, рукописи и не горят; у Платонова – до сих пор горят (или тлеют, готовые в одну секунду вспыхнуть гоголевским каминным огнем). Дело в том, как он писал, как относился к собственным текстам.
Писал он быстро и много, безоглядно, твердым карандашом на плохой бумаге, скидывая исписанный лист в корзину (вспышка творческой продуктивности в конце 20-х – начале 30-х годов сравнима с Болдинской осенью), все меньше надеясь на публикацию. Иногда ему мерещилось, что что-то все-таки возможно, и он извлекал из корзины черновик, с тем чтобы перебелить его. Правка наносилась уже чернилами поверх первого слоя. Изменения и дополнения бывали значительными. Расшифровать эти слои – задача уже даже не текстолога, а археографа. Дело в том, что Платонов никогда не был попутчиком. Придется воскресить этот подлый термин.
Значит, были писатели революционные, были мирные советские, были буржуазные и враждебные: эмигранты и внутренние эмигранты, но были и попутчики. (Потом уже, не менее подло, возникли сочувствующие, беспартийные большевики, просто беспартийная масса.)
Эта вполне грамотно заваренная идеологическая каша варится и до сих пор, все более незаметная именно тому, кто кажется себе носителем правды или свободы. Это отчетливо видно на нашем отношении к наследиям тех, кого уже нет, кто, в нашем понимании, окончателен, то есть стал добычей наследников. В результате мы имеем все тот же супчик, иначе заправленный («чем дальше в лес, тем толще партизаны», как сказано в народе).
Есть писатели прочитанные (в основном из попутчиков и даже внутренних эмигрантов – Ахматова, Пастернак, Булгаков), неправильно прочитанные (в основном из имевших прижизненное советское признание – Блок, Горький, Маяковский), недочитанные (Цветаева, Замятин, обэриуты) и непрочитанные (Заболоцкий, Зощенко, Платонов). Последних никогда бы не было, если бы не советская власть (достаточно косвенная ее заслуга). Их усилие выразить в языке то, что происходило в реальности, истинно ново, смело, органично и поэтично и не имеет ничего общего ни с каким новоязом.
Непрочитанные оказались непрочитанными не только потому, что их мало и поздно печатали, что касается и попутчиков и эмигрантов, а потому, что они оказались наиболее честны перед языком: они беспартийны и как большевики, и как небольшевики, «…иначе следует признать, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным». О ком это? «А мы знаем…» – отвечает со своей непреодолимой интонацией Платонов. «А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях».
В статье «Пушкин наш товарищ», писанной к пресловутому юбилею 1937 года, загнанный в непечатность Платонов применяет и легкомыслие (в официозе), и храбрость (в мысли): «В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой…» Умопомрачительная, мандельштамовская мысль! Перечитайте еще раз и еще раз, чтобы уместить в сознание… Пушкинский Евгений, например, сошел с ума, а Пушкин нет… Платонов возвращается к придурочной интонации социального заказа: «Евгений с содроганием прошел мимо Медного Всадника и даже погрозился ему: “Ужо тебе!”, хотя и признал перед тем: “Добро, строитель чудотворный!” Даже бедный Евгений понял кое-что /…/». И мы попытаемся.
Платонов равен режиму, он достоин трагедии, и в этом его величие: он знает свое место. Не Евгений погрозил пальцем Петру, а Сталин – Платонову, поставив свою жирную, кровавую, однозначную резолюцию на рассказах «Впрок» и «Усомнившийся Макар». И анализ «Медного всадника» звучит как собственно платоновский манифест равновеликости Истории и простого человека: «Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу». Никто, кроме Платонова, не углядел тут знак равенства.
12 апреля 2006,
День космонавтики в Швейцарии
Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф,
когда я в 1761 году ехал просить о подписании
привилегии для академии, быв много раз
прежде за тем же
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь:
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен;
Что видишь – все твое; везде в своем дому;
Не просишь ни о чем, не должен никому.
План беседы с Екатериной II об обстоятельствах, препятствующих работе Ломоносова в Академии Наук:
26 февраля – 4 марта 1765
1. Видеть Г[осударыню].
2. Показывать свои труды.
3. Может быть, понадоблюсь.
4. Беречь нечего. Все открыто Шлёцеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев.
5. Приносил его выс[очеству] дедикации. Да все! и места нет.
6. Нет нигде места и в чужих краях.
7. Все любят, да шумахершина.
8. Malta tacui, multa pertuli, multa concessi (многое принял молча, многое снес, во многом уступил.).
9. За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro arris etc. (за алтари и т. д.).
10. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют.
11. Ежели не пресечете, великая буря восстанет.
ЛОМОНОСОВ – из всех наименее бронзовый. В памятниках он не выше, не стройнее, не величественнее самого себя. То ли таков его памятный зачин: из Холмогор, за рыбным обозом, на медные деньги… – что он нам как бы ближе и понятней?.. Мы видим его неуместный парик, чулки и башмаки, а от лица остаются одни щеки. Монументы копируются с портретов – мы узнаём этот особый, единственно ломоносовский наклон головы: над листом бумаги крутит перо (гусиное), поглядывает вбок и в потолок, будто там для него что-то, на потолке, написано.
Ответ. Рифма или идея? Рифма и есть идея. То сходно с этим, а это созвучно с тем. Проблески единого закона… Ломоносов ТУДА смотрит, не на НАС. Взгляд его выражает благожелательное отсутствие.
Кабинетный медведь. То ли он голову наклонил, то ли парик съехал набок со слишком большой и дикой головы поморского недоросля. Что-то есть в нем младенческое – в его щеках, пухлости и буклях. Будто он никогда не менялся: от первого «мама» до последнего вздоха не переставал обучаться языку и прочему знанию, не повзрослев, не утратив именно младенческой гениальности познания.
«Математики по некоторым известным количествам неизвестных дознаются. Для того известные с неизвестными слагают, вычитают, умножают, разделяют, уравнивают, превращают, переносят, переменяют и наконец искомое находят… Прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая ее служительница и наперсница и в самые внутренние чертоги вход имеющая химия…» («Слово о пользе химии…», 1751).
Младенчество – сильная пора. Что такое русская наука до Ломоносова и после Ломоносова? Она не просто возникла при Ломоносове – ее к его приходу и быть не могло. А что Россия до Петра… мыслим ли Петербург, пока его еще не было? А что русская литература до Пушкина? – Пушкин-то на каком основании? Державина не хватает… Барков, что ли?..
Куда вернулся Петр из Амстердама, Ломоносов – из Марбурга? Не только на родину, но и на два-три века назад. С воспоминаниями о цивилизации, с образом XVIII века, бывшего настоящим временем, а ставшего будущим. И настоящее время России становилось в их взгляде прошлым. Понадобились именно их титанические энергия, усилия и труды. Существуя в трех исторических временах, как в трех грамматических, лишь эти люди могли надорваться в двух самых немыслимых для человека подвигах: ускорить время, приподнять уровень. Невидимая линия уровня – самый большой вес, который может взять человек (поднять над головой).
И ломоносовское переложение из Иова становится тогда не только переводом. Божественная страсть закипает в стихе, обеспеченная опытом российского ученого. Глас Божий звучит столь лично, что это уже удел лирики, а не оды. Если бы лирику писали титаны и боги исповедовались, посверкивая и погромыхивая, катая сизифовы ядра слов иного состава и удельного веса, – то была бы иная лирика. Ибо кому же исповедуется Бог, когда над ним уже никого нет? Не нам же он жалуется. Одиночество иного порядка…