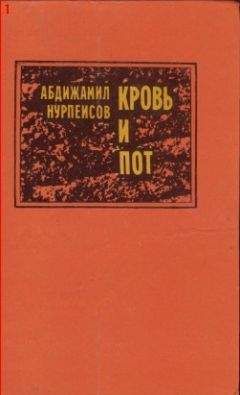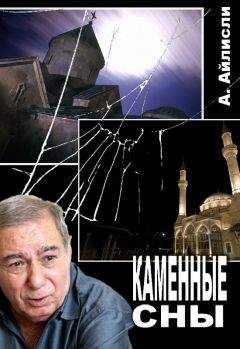— Поедем, а? С сокурсниками встретимся. Знаешь как интересно будет...
— Понимаю, очень хотел бы, но... Нет уж, поезжай лучше одна.
— А ты? Как же ты?
— Да какой мне отдых? План горит. А тут еще навалилась на нас беда. Рыба отчего-то ушла...
— Ды ну ее, бог с ней! И план пусть горит синим пламенем! Подумаешь!.. Море усыхает, рыба гибнет — ты-то тут при чем? Значит, решили?
— А что начальство скажет? Ему хоть в воду ныряй, а план давай.
— Подожди... это тот, что с ягнячьим брюшком... что тогда со мной танцевал?
— Он самый.
Бакизат рассмеялась, покачала головой:
— Он такой грозный, да? Ну, тогда ладно... Раз не можешь — оставайся.
— Хорошо, Батиш, ты же у меня умница...
— Ты не обидишься?
— Нет, конечно. С какой стати!
— Тогда буду собираться.
— Да-да... собирайся. Поезжай, отдыхай!
Самолет прилетал сюда раз в неделю. В другие дни он курсировал между городом и поселком на той стороне залива Туши-бас. В том поселке раньше находился рыбзавод, и вот уже пять... нет, уже целых семь лет, как его закрыли, за это время жители в поиске работы наполовину поразъехались. Тем не менее рейсовый самолет все еще ходил туда по некогда заведенному порядку, ежедневно. А вылетал рано утром. Ты отвез ее на старом грузовике к самолету.
Когда вернулся, возле конторы толпился народ. Ты еще издали заметил, что там же находился одноухий Сары-Шая, явно чем-то озабоченный, совал всем под нос слуховой аппарат. Подъезжая ближе, еще заметил, как он вдруг встрепенулся и, приставив ладонь ко лбу, вгляделся вдаль. Раньше других он заметил: там, вдали, заклубилась пыль. «Кто же это может быть?» Недолго пришлось им ждать, как тут из густой, рыжей пыли вынырнул грузовик. Не успели еще люди и опомниться, как он резко затормозил перед конторой правления. Из кабины не спеша вылез грузный рябой мужчина в засаленной тюбетейке на самой макушке. Нижняя толстая губа, отягощенная насыбаем, выпятилась, что придавало его крупному мясистому лицу брезгливое выражение. Едва ступив на землю, он обеими руками поддернул спереди мешковатые брюки, потом, задрав голову, хозяйски глянул на кузов. Там, опустившись на колени, громоздилась одногорбая красная верблюдица; вытянув длинную шею, не обращая внимания ни на что кругом, она тоскливо смотрела за горизонт.
Сары-Шая хмыкнул:
— Кто этот в тюбетейке? Вместо того чтобы с людьми поздороваться, он верблюдице своей, как святому, поклоны кладет...
Рябой мужчина не торопясь отряхнул с себя пыль. Потом так же не спеша поправил сползшую во время дорожной тряски на затылок тюбетейку. От чесотки ли, от парши или еще бог весть от какой давно прошедшей болезни вся голова рябого, кроме макушки, пестрела бурыми пятнами, поросла островками белых волос.
Выходка странного путника больше всех задела Сары-Шаю:
— Нет, вы только поглядите на него. В упор никого не видит! Он, наверное, такой же толстокожий, как и его верблюдица, — опять поддел он, вызывая на ответ незнакомца, и, как бы ища поддержки, оглянулся на аульчан.
Рябой все медлил, посасывал насыбай. Лишь только выплюнув его под ноги, он наконец повернулся к собравшимся, но и повернувшись, не стал здороваться со всеми за руку, а по странному, не принятому здесь обычаю приложил правую руку к сердцу, сдержанно, но учтиво поклонился. Сары-Шая понял, что ему не удастся вывести незнакомца из равновесия. Однако и молчать было не в его нраве. Посмотрев на красную верблюдицу в кузове громадного грузовика, он усмехнулся:
— Ах, ах... как важно восседает скотина, будто на троне сидит!
Верблюдица скорбно смотрела туда, откуда ее везли, и жалобно постанывала.
— Да будет удачлив путь! — сказал кто-то, приглашая незнакомца на разговор.
— Спасибо! Да сбудутся твои слова, — откликнулся рябой. — Из Кунграда вчера выехал. Хвалили, что добрая порода. И потому купил у знакомого каракалпака. Тоскует животина по родному краю. Всю дорогу стонет...
— Да-а... верблюд, он пуше человека привязывается к родной земле.
— А я слышал, что эта порода откуда угодно возвращается к привычным пастбищам, водопоям. Смотри, как бы не убежала. Надо бы на дорогу глаза ей черной тряпкой завязать.
— Я и сам было об этом подумал, но уже поздно. Сплоховал!
— Верблюдица хо-ро-шая!
— Купил ее ради молока. Жена у меня плодовитая. Детишек народила кучу, А летом что им в зубы сунешь? На зелень разную наш край не богат.
— Конечно, понимаю...
— Нам бы чаю напиться да по холодку опять в путь. Ну, братья, признавайтесь, чья жена проворней? — Незнакомец насмешливо посмотрел на Сары-Шаю. — К тебе, карнаухий, даже не обращусь. Уж больно на язык горазд. У пустомели, известное дело, котел всегда пустой.
Рыбаки дружно расхохотались, Рябой пришелся им по душе. А Сары-Шая от неожиданности даже было покраснел, чего с ним никогда не бывало, но тотчас нашелся:
— Кто осмелится божьего гостя пригласить к себе в дом, когда среди нас находится сам баскарма?!
— Добрая должна быть верблюдица. Пусть оправдает твои надежды и хлопоты. Пусть принесет в дом радость! — сказал Рыжий Иван.
— Аминь! Да исполнятся ваши пожелания!
— Ну, дорогой гость, а как житье-бытье в тамошнем крае?
— Слава аллаху, живут пока люди в здравии и достатке. Только Амударья нынче что-то не того...
— А что? Что, бушует? Разлилась?
— Ой, не говори! Жуть! Как ее ни старались взнуздать, она, строптивица, такой тарарам устроила!
— Да, с Амударьей в половодье шутки плохи... Бед не наделала?
— Смертей вроде нет. А дома, сказывают, затопила. И скот, говорят, кое-где унесла.
— Вот это да-a! Амударья страшна в гневе! Еще хорошо, что повернули ее в Каракумы. А то бы с ней вообще сладу не было.
— Брось! Напрасно загнали ее в пески... Кому-кому, а нам эта затея боком вышла.
— Не говори! Тогда бы наш Арал не постигла бы беда... Ну, как Амударья, бушует?
— Днем и ночью грохочет. Вся желтая, глинистая, без удержу в море несет.
— Апырай, а? Черт знает что...
— А как там с рыбой... случайно, не слыхали? — поинтересовался Рыжий Иван.
— Слыхал. Говорят — непостижимо! Сама из воды прет. Каракалпаки не успевают вычерпывать.
— Апырай, а! Черт побери... Ну, председатель, понял теперь, куда подалась твоя рыба?
— Выходит, почуяла, бедная, приток пресной воды и снялась, шарахнулась вся на юг, — оживился вдруг и Рыжий Иван. — Ну, что будем делать? Решай!
— Решение одно. Догонять рыбу надо. А ну-ка, давай, собирайтесь! Живо! И сегодня же в путь!
Да, рыбак всегда остается рыбаком: скажи ему, что рыба ушла на край света, — он и туда за ней отправится... Тут же рыбаки побежали. Быстро погрузили на катер рыболовные снасти.
Рябой мужчина, напившись чаю и передохнув, с вечерней прохладой тоже тронулся в путь. Караванная дорога, некогда проложенная при купце Тентек Шодыре, затем — Темирке, начиналась отсюда. Перемахнув через хребет Бел-Арана, она сразу уходила по двум направлениям: одна — на Челкар, другая — на Арал. Ты проводил гостя за аул и показал парнишке-шоферу дорогу. Шофер без особой пока нужды включил мощные фары и газанул так, что грузовик дернулся, взревел и неукротимо, точно зверь, вырвавшийся на волю, понесся по ровной полынной степи. Пока работает мотор и крутятся колеса, не страшны ему никакие расстояния. В мгновение ока вымахнул он на черный холм, оттуда рванулся, срезая поворот, налево, потом направо — и, выбравшись на большак, с ровным мощным гулом устремился на закат. Ты стоял, все глядя вслед, пока могучий грузовик не скрылся из виду. Над высокими бортами еще долго видна была голова верблюдицы. Чрезмерно вытянутая, словно застыла она в своей неутешной, древней, как этот мир, скорби. Ничто в этот час не привлекало, не утешало верблюдицу — ни бурая степь, ни посвежевшее к ночи дыхание моря, ни полная луна, начищенным медным подносом всплывавшая на небосклоне. Она глядела туда, где осталась родина, где остались родные холмы и долины, привольные пастбища. И все это еще долго будет ей сниться, будет смущать ее покой, тревожить тоскующую душу. И ничего ей не будет мило в чужом краю. И в предчувствии своей тяжкой отныне, своей вечно томимой тоской разлуки судьбы смотрит верблюдица влажными черными глазами, смотрит не отрываясь, вытянув некогда гордую шею, туда, где осталась навсегда родимая земля, откуда увозит ее это с несусветной скоростью несущееся чудовище. Прощальный рев-стон бессловесной животины резанул тебя по сердцу. Ты, конечно, понимал, допускал в своих мыслях, что всемогущее время технического века перевернет по-своему многое, но почему-то предположить не мог, что это так скоро коснется и древнейшего, благороднейшего животного пустыни и степи. Почему-то всегда хотелось верить, что если что и может остаться в нынешнем переменчивом мире без изменения, так это именно оно и все, что извечно связано с ним: неторопливость, покладистость и выносливость... Но неукротимое и безжалостное время не смилостивилось и над этой нерасторопной животиной, ее оторвало от земли, подхватило и понесло неизвестно куда. Кто скажет теперь, как сложится ее судьба потом, в будущем, как сможет она угнаться за стремительной поступью времени? А пока ее, послушную и тоскующую, увозят в кузове захлебывающегося железным ревом грузовика.