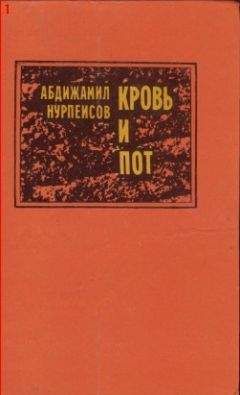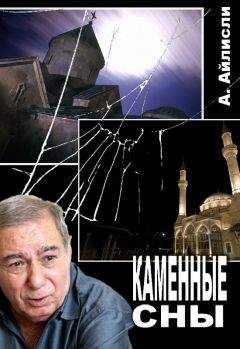Но не следует, однако, думать, что Ауэзову была неведома так называемая «обратная сторона творчества», что ему никогда не было трудно, что он не испытывал столь известных миру творческих мук и создавал все свои произведения легко и просто. Наоборот, он часто бывал недоволен собой, хмур, иногда сердит, жаловался друзьям, что где-то, на каком-то проклятом месте, застрял; в такие дни у него появлялась особая, сердитая интонация, известная всем его многочисленным друзьям и знакомым. Даже разговаривая с ним по телефону, за тысячи километров, бывало, улавливаешь, как досадливо морщится его лоб, как трудно ему вести беседу. Другой бы давно бросил трубку телефона, а его сдерживает с детства выработанная воспитанность, я бы сказал, природный такт. Временами он бывал холоден, сдержан, но всегда корректен со всеми. Такое происходило, когда его одолевали творческие муки, бессилие, или «невезение», как он сам называл. И этот волшебник, обладающий сверхъестественной силой, каким он показался мне, когда диктовал третью книгу «Абая», выглядел тогда изнуренным, несчастным, как бывает несчастен старый полководец, неспособный увлечь на штурм свое прежде испытанное войско. И наконец он, не выдержав колоссального напряжения, с горечью говорил машинистке извиняющимся голосом:
— Уж очень трудно начать эту проклятую. Извини, дорогая, приходи завтра!
А ведь мы знали, что Ауэзов, прежде чем диктовать, вначале долго вынашивал, набрасывал на бумаге тщательно продуманные планы, знали, что он до романа много времени посвятил всестороннему и углубленному изучению истории и эпохи великого поэта.
Абай умер на стыке двух веков, когда уже довольно ясно обнажались противоречия нового со старым. Ауэзову в это время было семь лет, и он только-только начал всматриваться в окружающий мир. Будущий писатель успел увидеть Абая, начинавшего гаснуть под тяжестью тоски и горя. Потом Ауэзов жил среди многочисленных друзей, врагов, родичей и сверстников Абая, с которыми поэт сталкивался в самых разных жизненных ситуациях: присутствовал на острой полемике биев[7], где помимо прочего воздавалась хвала искусству красноречия, находчивости и остроумию того или иного оратора и решали большие дела двух или трех враждовавших между собой родов; ездил по аулам, устраивал разные дела, бывал на соколиной охоте, где веселилась, легко воспламеняясь, поэтическая натура неотразимым охотничьим азартом. Помните, как у автора: «Скакал с развевающимися полами чапана и что-то кричал, увлекаясь охотой, показалось, будто селезень сам упал на сокола и повис в его когтях».
Словом, Мухтар Ауэзов жил среди людей, которые знали и охотно передавали свои впечатления об Абае, о его делах, поступках, привычках, характере, с годами ставшими в сознании народа живой легендой преданием, и, самое главное, будущий писатель воспитывался и рос под благотворным влиянием песен, стихов и философских назиданий Абая, в том самом ауле, недалеко от Чингистау, где веками не утихали поистине шекспировские страсти, где враждовали племена, не прекращались ночные набеги, взаимная барымта и угон табунов, умыкание девушек. В этой степи жили грозные Кенгирбай, Ускенбай, Кунанбай. У них были свои законы, свои правды, свои истины и нормы поведения — для женщин, для мужчин, для старых и молодых, — и попробуй осмелься не повиноваться или случайно отступить от коварной черты, установившейся веками незыблемым религиозным этикетом патриархально-родового аула. Отступника ждала жестокая расправа. Особо жестокая участь постигала молодых влюбленных, без благословения родовых старейшин пожелавших соединить свои судьбы. Так поступили аксакалы с Калкаманом и Мамыр, с Енлик и Кебеком, потом, уже при жизни Абая, с Камкой и Кодаром. Чтобы устрашить молодое поколение, которое не боится божьей кары и все меньше почитает непререкаемый авторитет старших, старейшины родов прибегали к самым страшным казням: Калкамана и Мамыр привязали к хвосту дикого коня, которого пустили вскачь по степи; Енлик и Кебека, связанных одним арканом, сразили стрелой, а их невинное дитя, как незаконнорожденное, предали неслыханной по жестокости смерти — оставили в безлюдной степи под палящим солнцем. Что касается Кодара и Камки, волей ага-султана[8] Кунанбая их убили на глазах старейшин сорока родов, повесив на горбах верблюда.
Шли годы, сменялись зима и лето, весна и осень, цвели и отцветали не однажды тюльпаны в степи, молодые старели, а старики умирали, распрощавшись и с многочисленными друзьями, и с врагами — со всеми, с кем за короткую жизнь свела их лукавая судьба; умирали и уходили они в небытие, оставив новому поколению дом свой, свои табуны, просторы джайляу, свои воспоминания, словом, все, что они за свою жизнь нажили, и только, казалось, уносили с собой зло века. Но зло не так-то легко уходило, изживалось со света, оно цепко держалось за жизнь, накапливалось, набухало в чреве дряхлеющего патриархально-феодального строя; шли годы, одно поколение сменялось другим, но жестокие законы жестоких правителей степи старательно наследовались от отца сыном, от поколения поколением.
А Абай с юных лет видел произвол и беззаконие, творимые Кунанбаем. Легкоранимая душа его глубоко страдала каждый раз, сталкиваясь с многоликим коварством родного отца. В пору зрелости Абай искал поддержки у молодежи, делился с ней, надеясь, что молодежь поймет его, рассказывал о злодеянии, совершенном сто лет назад. И нынче сильные опять чинят насилие над беззащитными. Какими законами, какими обычаями оправдать произвол, не меняющийся на протяжении ста лет? Переменились только имена хищников (одного звали Кенгирбаем, другого Кунанбаем, а нынешнего Азимбаем) да изменились способы насилия: раньше убивали камнями, а теперь нищетой и голодом, — сокрушался Абай, чувствуя свое одиночество и бессилие.
В минуты отчаяния все говорило ему «об утраченной силе и минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни». Абай внезапно чувствовал себя «осиротевшим, одиноким и усталым». Но он никогда не отказывался от борьбы, не сдавался без боя, всегда, когда бывало трудно, находил в себе силу и надежду. «Его сила — это поэзия, его надежда — народ. Но эта надежда еще в беспробудном сне. А сила его, не останется ли она непонятой, неузнанной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли, — воли стойкости в одиночестве?» — думал Абай. Сейчас, конечно, нам легко говорить о том, что сомнения поэта в минуты его душевной слабости были необоснованными ибо каждый из нас знает сегодня, как поняло, полюбило, оценило по достоинству благородное отечество «скорбный труд» поэта. После Чокана Валиханова в то далекое время в степи никто так крепко, как Абай, не связывал свою судьбу с судьбой народа. Всю жизнь поэт носил в себе боль своего народа и унёс ее с собой. Эта боль вызывала сочувствие и сострадание, воплощалась в стихи, в философские размышления — гаклии, придавала элегическую мягкую грусть его песням.
Изучая жизнь и творчество поэта, молодой Ауэзов как бы сам пережил, переосмыслил заново всю эту тяжкую скорбь ушедшей эпохи. И недаром мы легко находим в Ауэзове роднящие его с великим поэтом схожие напевы не только в обобщении и осмыслении событий, но и в общности эмоциональной окраски. Но, воспитанный на лучших образцах русской и мировой классической литературы, Мухтар Ауэзов в начале двадцатых годов смотрел на казахскую действительность с принципиально новых позиций. Он считал, что молодая проза, развивающаяся в новых социальных условиях, должна стать наследницей и закономерным продолжением реалистической, демократической поэзии великого поэта, и недаром во всех произведениях Ауэзова отчетливо слышны мотивы абаевской поэзии, особенно заметно влияние его общественных, философских, эстетических взглядов. Вполне закономерно, что еще в ранних рассказах писателя мы часто встречаем картины, явления, противоречия старого патриархального аула, которые в свое время волновали поэта. Но если Абай, рисуя живые картины быта и нравов аула, был склонен к философским обобщениям, то в ранней прозе Ауэзова мы находим обстоятельный реалистический анализ этих же явлений.
Возьмите пьесу «Енлик — Кебек», одно из первых произведений Ауэзова, в котором так отчетливо определились его мировоззрение и идейная сущность его разностороннего дарования. Ауэзов вложил в пьесу весь сгусток боли, обид, укора и проклятия, не до конца высказанных великим предшественником скорбных дум. И начиная с этого спектакля, сыгранного в юрте задолго до открытия первого национального театра, писатель находит свою золотую жилу в нетронутых недрах народной жизни. И он был верен своей золотоносной жиле, работать всю жизнь, устремляясь как можно глубже в ее недра, в пласты истории народа, с такой же своеобразной сложной судьбой, как и судьба самого писателя. В каждой своей книге, независимо от жанра, от духовного ее настроя, он настойчиво интерпретировал историю народа. Вслед за «Енлик — Кебеком» появились «Караш-Караш», «Лихая година», «Зарницы», «Дос — Бедел дос» — и произведения, созданные в разные годы, в разных жанрах (многие из них в нескольких вариантах), едины и цельны в самом главном: в своей предельной национальности.