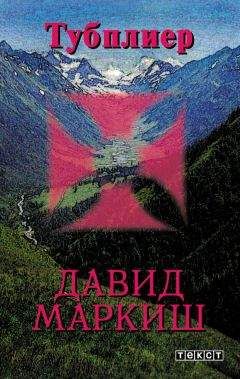Майка была для него красивой яркой декорацией, без которой ему самому и делать бы нечего на сцене. Их родители пропали в тридцать седьмом, еще при Ежове, и осевшая в сибирской глухомани Майка казалась Семену семейным бастионом, надежным и крепким. Как бы ни сложилась судьба, каким бы боком ни повернулась – всегда можно было уехать в Тобольск, за тридевять земель, к Майке: стол под выцветшей клеенкой, картошка с постным маслицем, попахивающий сапожным дегтем чаек в выщербленных чашках. Родная семья.
Стопка писем росла, поездка в Тобольск откладывалась…
Эта история – безотцовщина, постная картошка в Сибири, больной Быковский – была бы ничем не примечательной, каких тьмы и тьмы в России, если бы не страсть Семена к рисованию. Водить карандашом по бумаге он начал на фронте, в условиях, казалось бы, самых неподходящих; такое иногда случается с людьми в тюремной неволе и в сумасшедших домах. Но и гибельные обстоятельства войны, и нелепая насильственная смерть, непостигаемо сделавшаяся привычной, вызывают необратимые подвижки в иных душах, ведут человека к творчеству – в колени Бога. Обрывочные художественные занятия стали для Семена потребностью и радужным выходом из военного слепого тупика. Не вглядываясь в будущее, опасно висящее на жидкой нитке, он желал стать художником.
Будущее наступило в мае сорок пятого – Семен пошел учиться и художником стал. Вполне посредственным художником с дипломом художественного училища в кармане. Служба книжным графиком в геологическом издательстве «Недра» приносила ежемесячную зарплату, тихое место на общественной лестнице, в нижней ее трети, и – по профсоюзной линии – ежегодное лечение в туберкулезном санатории «Самшитовая роща». Даже и не лечение, собственно говоря, а подлечивание. Не поправка, а подправка.
И, подправленная болезнью, продолжалась жизнь. Была комната в коммуналке, почти в центре, невдалеке от Трубной, были праздники – день рождения, Новый год. И была Майка – эта башня, эта опора семейного фундамента в далеком Тобольске, почти мифическом, окрашенном в белоснежно-розовые сибирские тона.
Реальным домом, обжитым и теплым, стал туберкулезный санаторий на кавказской горе. Семен выходил из него в сопредельный двоюродный мир и жил там среди чужих, недопонимающих его людей – выходил, чтобы вернуться. Все они, обитатели санатория, испытывали подобное чувство неразрывной привязанности к своему истинному дому, все без исключения. Уходили к чужим, возвращались к своим. Рыжая Эмма была Семену Быковскому куда ближе любой из тех вполне милых здоровых женщин, что заглядывали от времени до времени в его коммуналку на Трубной, и сидение в «стекляшке» под стрекот кавказских цикад – приятней званых московских посиделок в кругу непричастных приятелей. А жизнь причастных объединяла общая тайна – как тайный договор объединял масонов с их секретными знаками или немногословных тамплиеров, скрытых для постороннего взгляда стенами своего ордена.
Но первый день, день вхождения, был еще трудней последнего, прощального, уводящего навсегда в тот мир, где ни секреты, ни тайны как будто ни к чему.
– Мы пьем, – улыбнувшись над чебуреками, повторил Семен. – А вы не замечаете…
– Ну и что ж! – вступилась за Влада Валя Чижова. – Может, просто задумался человек… Бывает же!
– Конечно, бывает, – благодарно подхватил Влад. Хорошая какая девушка Валя Чижова, все понимает. Что надо, то и понимает, и в этом, наверно, и есть счастье или, по меньшей мере, смысл жизни.
– «Ах, цыгане, прелестна ваша жизнь»! – приятным голосом пропела Валя. – Надо было гитару захватить, это я, дура, забыла.
– Странная все-таки штука эта жизнь, – сказал Влад Гордин и нахохлился над стаканом: заявление вышло таким потертым, таким пустым. – А вы цыганские песни знаете? «Я проскачу по лучшей в мире дорожке, на лучшей в мире кобылке…» Лорка.
– Да, странная вообще-то, – беззаботно согласилась Валя.
Скажи Влад, что жизнь, напротив, начисто лишена странностей и проста как смазные сапоги, она и с этим бы, наверно, согласилась с той же прозрачной легкостью. Замечательная действительно девушка Валя, таких поискать надо, жить надо с такими всю жизнь напролет и умереть в один час. Так нет…
– А я, когда еще в Вологде жил, – сказал Миша Лобов и искательно продвинул порожний стакан к середине стола, – так вот, у нас там была одна старушенция, она волосы сводила пареной крапивой и чирьи лечила.
Рыжая Эмма уставилась на Лобова с искренним интересом, да и Валя наставила ушко топориком, как будто ей угрожало нашествие чирьев и она остерегалась загодя; девушек интересовала лечебная тема. Вслушался и Влад: как-никак знахарка с хирургическим взглядом встречается не на каждом шагу. Только Семен Быковский сидел отстраненно.
– Какие волосы? – уточнила Эмма.
– Ну, какие… – задержался с ответом Миша Лобов. – На ногах, например, или на спине, где кому надо. У одной моей знакомой росли прямо на копчике, как такая бородка, – она свела.
– Дурак! – не выдержала, прыснула Валя Чижова.
Лобов не стал спорить и не обиделся.
– А как она крапиву парила? – снова задала вопрос Эмма. – Ты рецепт, случайно, не запомнил? А то, когда бритвой бреют, все снова отрастает и колется на ногах. – Как видно, эта тема была ей не чужда и горький пример волосатого человека Адриана Евтихиева из учебника по естествознанию стоял у нее перед глазами.
– Ну, как… – призадумался Лобов. – Я сам лично не видал, как она парила. Брала крапиву…
– Да что мы все про старое! – вошел в разговор вроде бы и не прислушивавшийся Семен Быковский. – Вологда!.. Какая там еще Вологда! Мы на Кавказе, в Самшитовой роще, шумит ручей, мы живы и пьем вино. Чего еще? И на кой черт нам сдалось это прошлое, я не понимаю? Если время мерить на минуты, то для меня вот эта самая минута – вечность. Или по крайней мере, жизнь.
– У нас же праздник, – сказала Эмма и, улыбнувшись, потерлась щекой о Семеново плечо. – Нас стало больше. Влад, за вас!
– Тогда давайте на брудершафт! – предложил Миша Лобов. – На «ты»! По закону!
Идея пришлась по вкусу, все потянулись к Владу стаканами, переплетали руки, чмокались. В который уже раз за сегодня Влад Гордин вспомнил железную ручку на двери диспансера и как он натягивал рукав пальто на ладонь. И воспоминание это без всплеска и без следа ушло под воду.
– Ну вот, – вскользь поцеловав Валю Чижову и не отстраняя лица, сказал Влад. – Считай, теперь уже все.
– Что все-то? – шепнула Валя и вильнула своими синими шариками сквозь подкрашенные ресницы.
– Да так… – тихонько, в тон Вале, сказал Влад Гордин. – Все по новой!
Насчет «уже все» Влад несколько преувеличивал. Свою жизнь в санатории «Самшитовая роща» в новом качестве он начинал не с чистого листа: кое-что все же позвякивало и побрякивало, прикованное к щиколоткам легких плясовых ног. Не говоря уже о семейном круге, о кровном родстве, оставалась в Москве еще и Таня с разноцветными глазами, один ореховый, другой зеленый, – девушка из окололитературной среды, привязанная почему-то к эпистолярному жанру. Семейный же круг был, правда, надежно разомкнут, припорошенные временем связи ушли в разъем, и Влад не испытывал ровным счетом никаких обязательств перед всеми этими двоюродными тетками и троюродными дядьками, да и энергичная мама, устроившая свою жизнь после гибели отца и уехавшая в Литву с новым мужем, не вызывала в нем ничего, кроме праздного любопытства. Из Самшитовой рощи вся эта семейно-родственная колония выглядела совершенно посторонне и пунктирно. Не то с эпистолярной Таней, которая наверняка сидит сейчас за письменным столом и наяривает страницу за страницей: «Мой любимый кареглазый король, мне страшно одиноко без тебя в этой огромной московской клоаке. Все муки, которые ты испытываешь вдали от меня, синим током пронизывают мое тело, самые затаенные его уголки и переулки…» Нелегко иметь дело с окололитературной барышней, это ясно. Но и водоплавающая какая-нибудь Матреха из рыболовецкого колхоза «Красная мормышка» надоест через месяц-другой и станет поперек горла: каждое сердечное предприятие имеет свой запас прочности. А эта Таня с ее затаенными переулками тихо и накатанно перешла к Владу Гордину от его приятеля, самиздатского прозаика Вадима Соловьева по кличке Пес. Случилось это на вечеринке у Пса, в его полуподвале, прозванном знакомцами хозяина для красоты слога «Конура». Ну Конура так Конура; не называть же псиное жилище Гнездом кукушки… Так вот, у Вадима Соловьева осталась тогда на ночевку одна девчоночка, приехавшая в столицу из Калуги поступать в театральный институт, а эпистолярную Таньку взял на буксир Влад Гордин, довез ее до «Войковской» да так там и остался в Танькиной однокомнатной квартирке, доставшейся ей от первого мужа – доброго человека и художника кино. Наутро, открыв глаза и обнаружив у своего плеча посапывающую Таньку, Влад Гордин даже немного удивился: вчера то же место и то же пространство у плеча занимала совсем другая девушка. Правда, и вид комнаты вчера был совсем иной, и это многое объясняло… Так или иначе, но совершенно ни к чему было оставлять Таньке адрес санатория и вообще посвящать ее во все эти дела. Жила бы себе дальше и ничего не знала, и никаким током ее бы не било. Надо было уходить по-английски, англичане ведь тоже не круглые дураки: ни тебе «спасибо», ни «до свидания». Но кто же мог догадаться, что в первый же кавказский вечер вот эта чудная Валя с закрытой формой будет с ним целоваться на брудершафт!