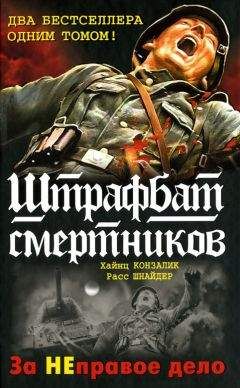– Элиас?… Хотя нет, ты не будешь голосовать, это нам уже известно. Пауль?
Немец пожал плечами:
– Я не возражаю.
– Остается Мириам, – заметил Берковиц.
Мириам подняла голову и посмотрела на мужчин.
– Я не знаю, кто такой Яцек, я с ним не знакома. Поэтому не могу ничего сказать. Я знаю только одно: он хочет жить, а я – нет.
– Мириам… – обратился к ней Моше, однако она не дала ему возможности договорить.
– Моше, – сказала она, – ты всегда пытался выступать в роли посредника, разве не так? Это твое ремесло. Посмотри на них, – она стала показывать ему поочередно на всех остальных заключенных, начав с Берковица. – Он хочет жить ради своих денег. Отто – ради своей революции. Пауль – ради своего фюрера. Элиас – ради своего Бога. Иржи – ради своей сцены. А ты, Моше… Она подошла к нему и, вытянув руку, погладила его по щеке. Ее голос смягчился.
– Ты хочешь жить, потому что ты любишь жизнь. Она кажется тебе удивительной. Даже здесь, в этом лагере, ты не перестаешь ею наслаждаться. Ведь правда?
Моше опустил глаза.
– У всех имеются убедительнейшие основания для того, чтобы стремиться выжить. У вас есть нечто большее, чем вы сами, и оно вас поддерживает, дает вам силы. А я не… – К глазам Мириам подступили слезы. – Я жила только ради Иды. Я не верю в Бога. (Элиас вздрогнул.) Уже больше не верю. Я не верю в деньги и тем более в революцию, а про фюрера я думаю, что он всего лишь психопат… Позовите коменданта и скажите ему, что вы выбрали меня. Мне не хватает мужества броситься на проволочные заграждения, чтобы меня убило током… Поэтому…
Мириам замолчала.
Элиас, Моше, Иржи и Берковиц растерянно переглянулись.
– Нет, Мириам, – сказал Моше. – Мы этого не сделаем.
Яцек больше не стоял на одном месте (он подпирал спиной стену), а начал ходить взад-вперед по бараку. Он ходил, обхватив себя руками: он, казалось, пытался таким способом защититься.
– Получается, остался только я, – наконец сказал он.
– А чего ты ожидал? Что мы будем благодарны тебе и то, когда ты бил нас сам или заставлял бить нас своих прихлебателей? – Отто с трудом сдерживал гнев.
– Я вас бил, это правда.
– Ты пускал в ход палку каждый раз, когда у тебя появлялась такая возможность.
Яцек встал прямо напротив «красного треугольника»:
– А вот это неправда, Отто, и ты это знаешь.
– Ты…
– Я бил вас только тогда, когда это было действительно необходимо, когда я попросту не мог этого не делать…
– …что случалось довольно часто, – перебил его Моше. – Ладно, хватит, Яцек. Тебе не удастся выставить серя в роли жертвы. Не говори, что поступать так ты был вынужден. Никто не заставлял тебя становиться капо. Многие от этого отказывались.
– Это правда. Никто меня не заставлял.
– Немцы давали тебе дополнительную порцию еды, жир для смазывания деревянных башмаков, ломоть хлеба, маргарин и, возможно, сигареты. Тебе не приходилось работать, лежанка у тебя была мягкой, ты не попадал ни под какие селекции…[69] Ты поступал так, потому что пытался выжить…
– Как и все вы. Вы все тоже пытаетесь выжить.
– Но не такой ценой. Не такой. Если кто-то из находящихся здесь и заслуживает смерти, то это ты.
– Я поступал так ради хлеба и ради дополнительной порции похлебки, это правда. Однако все совсем не так просто, как ты пытаешься представить.
Берковиц вопросительно уставился на Яцека:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Иржи рассказал вам, что когда-то я был футболистом. Играл в защите, старался не позволять противнику забивать голы. Когда играешь, нужно соблюдать правила, а иначе судья дунет в свой свисток и удалит тебя с поля.
– Здесь судьи не удаляют с поля, а отправляют на расстрел, – сказал Моше.
– Здесь, в лагере, тоже есть свои правила. Я их соблюдал – точно так же, как соблюдал правила на футбольном поле. Однако соблюдал я их не всегда. Когда я играл в футбол, мне доводилось – хотя и редко, но все же доводилось – нарушать правила. На поле иногда замечаешь, что судье тебя не очень хорошо видно, потому что между ним и тобой находятся другие игроки, и тогда можно как бы невзначай помочь себе в работе с мячом рукой. Или же можно сделать вид, что слегка выскочивший за линию мяч остался в пределах поля, и продолжать играть дальше как ни в чем не бывало. А еще я умышленно падал, как будто меня сильно толкнули, хотя в действительности меня никто даже и не касался. В общем, бывают ситуации, когда можно обдурить судей, и если мне представлялась такая возможность, я это делал.
– Не переживай, – сказал Моше, – мы не разоблачим тебя перед федерацией футбола.
– Ты все шутишь, Моше, а я говорю о вещах серьезных. Да, я – Blockältester, и я бил вас, чтобы спасти самого себя…
– Не забудь также упомянуть о порциях похлебки, отнятых тобою у «мусульман», о хлебе, которым ты с нами не делился, и о том, как ты помогал эсэсовцам во время селекции…
– Да, Моше, было и такое. Я помогал эсэсовцам во время селекции, это правда. А ты помнишь Карла, сапожника?
Лицо Моше омрачилось.
– Вижу, что помнишь. А ты помнишь, кто устроил его работать в мастерских, в результате чего он целыми днями находился в более-менее теплом помещении, а не разгружал шпалы по сто килограмм весом при десяти градусах ниже нуля? Знаешь, почему я это сделал, Моше? Потому что я видел, что на морозе он долго не протянет. Я имел возможность выбирать, и я предпочел послать разгружать шпалы кое-кого покрепче. Получается, что я попытался этому немощному человеку помочь.
– Может, приведешь еще один подобный пример, Яцек?
– Хорошо, я приведу тебе еще один пример. Ты помнишь селекции, которые проводились в марте, а, Моше? Ты их помнишь?
Никто не смог бы их забыть.
– Скажи, Моше, что я попросил тебя раздобыть для меня в «Канаде»?
– По-моему, жидкую пудру.
– Такую, какую используют женщины, да?
– Насколько я помню, да, именно такую.
– И что я с ней сделал? Это ты помнишь? Я приобрел ее у тебя, чтобы ею подкрашивали себе щеки слишком бледные Häftlinge и чтобы они тем самым могли пережить селекцию. «А ну-ка, побегай туда-сюда! – говорил я каждому из них как раз перед тем, как он должен был отправиться на осмотр к врачу. – Побегай туда-сюда так, как будто за тобой гонится сам дьявол». Благодаря такому бегу и моей жидкой пудре некоторым из них удалось благополучно пройти осмотр и тем самым спастись.
– Однако очень многим этого сделать не удалось.
Яцек встал прямо напротив Моше. Он был выше его остом.
– Хочешь, я назову тебе еще одного человека, которому удалось спастись благодаря мне? Это ты, Моше. Когда два месяца назад ты заболел дизентерией, кто устроил тебя в лагерную больницу? Скажи мне, кто?
Моше отвел взгляд.
– Я, в общем-то, смог бы устроиться туда и сам, – сказал он.
– А кто предупредил тебя, что в то утро в больнице будет проводиться селекция? Кто посоветовал тебе срочно вернуться в барак? Кто, Моше?
Моше ничего не ответил. Остальные заключенные тоже молчали.
– Я вас бил, это правда, – сказал после небольшой паузы Яцек. – Но я не мог этого не делать. Кроме того, если бы я этого не делал, вам, возможно, назначили бы другого старосту блока – гораздо более сурового, чем я. Например, Алексея. Я старался истязать вас только тогда, когда обойтись без этого было невозможно, и бил я вас хотя и не очень слабо, чтобы не вызвать недовольства немцев, но и не очень сильно, чтобы не нанести вам каких-нибудь телесных повреждений. Вот, к примеру, ты, Иржи!
«Розовый треугольник» вздрогнул.
– Ты только что показывал свои синяки. Однако если бы тебя не избил я, что с тобой сделал бы эсэсовец, который тебя остановил?
Иржи, испуганно заморгав, промолчал.
– Ты вызываешь у него неприязнь, Иржи, и ты это знаешь. Он тебя ненавидит. Как он тебя называет? «Мерзкий извращенец»… Когда три недели назад он пришел на Appellplatz, он натолкнулся там на тебя. Ты шел один. Он остановил тебя и забрал головной убор. А что он сделал потом?
– Он его швырнул… – промямлил Иржи.
– Именно так. Он зашвырнул его за линию, через которую переступать запрещено. Переступишь – и по тебе начнут стрелять часовые. И что он тебе сказал? Он сказал, чтобы ты пошел и забрал свой головной убор. Это был приказ эсэсовца, и не подчиниться ему ты не мог. Ты или пошел бы за своим головным убором – и тогда часовые пристрелили бы тебя как заключенного, пытающегося совершить побег, – или не подчинился бы приказу этого эсэсовца – и тогда он за это пристрелил бы тебя сам. Разве не так, Иржи?
– Так.
– Я в этот момент проходил мимо. И как же я, Иржи поступил? Я сделал вид, что ищу тебя, чтобы наказать какую-то оплошность. Я подскочил к тебе сзади и начал бить по ляжкам ногами. Эсэсовец стал смеяться и сказал чтобы я врезал тебе сильнее. Затем он, повеселев, зашагал прочь. Его гнев прошел. Если бы я тогда не вмешался, Иржи, где бы ты сейчас находился?
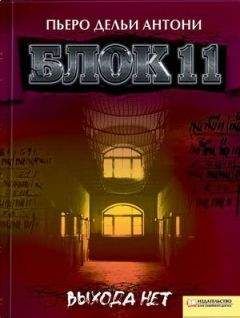
![Мэри Кларк - Молчаливая ночь [with w_cat]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)