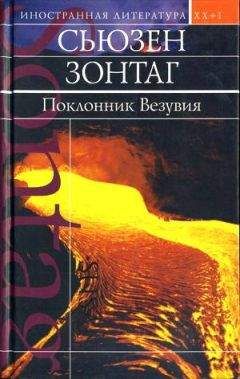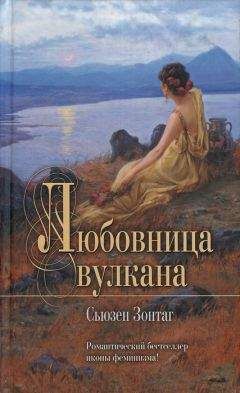Великий момент! – произнес поэт на своем высокопарном французском. – Вот что должно отражать великое искусство. Наиболее типические, трогательные, человечные моменты жизни. Мои комплименты, мадам Харт.
Спасибо, – поблагодарила она.
Ваше искусство весьма необычно, – серьезно сказал поэт. – Непонятно, как вам удается столь быстро переходить от одной позы к другой.
Просто удается и все, – сказала она.
О, разумеется, – улыбнулся он. – Понимаю. У настоящего артиста всегда есть свои секреты.
Но мне просто удается, – повторила молодая женщина, краснея. Не хочет же он, в самом деле, чтобы она рассказала, как это получается.
Все же, как вы это делаете? – настаивал поэт. – Что, персонаж предстает перед вашим мысленным взором?
Пожалуй, – сказала она. – Да.
Ее волосы были влажны. Поэт задумался, каково это – обнимать ее. Но она – не в его вкусе. Ему нравятся женщины более образованные либо более скромные, не такие живые. А она так и пышет талантом. Безусловно, исполнение замечательно талантливо. Она – не только всеми признанное произведение искусства, но и сама творец. Модель – и одновременно художник. Отчего бы и нет? Впрочем, гений – это нечто другое. Так же, как счастье. Поэт еще раз подумал о том, сколь счастлив Кавалер. Счастлив, ибо не желает большего, чем у него есть.
Повисла долгая, неловкая пауза. Молодая женщина спокойно стояла под пристальным взглядом чопорного немца.
Не желаете ли вина?
Позднее, – сказал поэт. – Я не привык к такой жаре.
Да, – воскликнула молодая женщина. – Здесь очень жарко! Очень жарко.
Великая цель всякого искусства – разжигать воображение, – заметил поэт. Она согласилась. Художник, преследуя высокий замысел, имеет право отступить от низкой исторической правды. Ей было жарко, она вспотела. Немного погодя она сказала поэту, что читала и до безумия восхищена его «Вертером», и ей очень жаль бедняжку Лотту – как та, должно быть, корила себя за то, что вызвала столь роковую страсть в душе излишне чувствительного молодого человека.
А вам не жаль излишне чувствительного молодого человека?
Ах, – сказала она. – Конечно. Однако… больше жаль Лотту. Она поступала, как считала правильным. И не хотела ничего плохого.
А мне жаль моего героя, – сказал поэт. – По крайней мере, было жаль. Сейчас это ушло в прошлое. Когда я это писал, мне было двадцать четыре. Теперь я совершенно другой человек.
Молодая женщина – ей всего двадцать два – не в силах представить, что стоящий перед нею господин когда-то был того же возраста, что и она сейчас. Ему, верно, столько, сколько Чарльзу. Чудные эти мужчины. Не боятся стареть.
Это история из жизни? – вежливо спросила она.
Все об этом спрашивают, – ответил поэт. – Точнее, всем интересно, со мной ли она приключилась. Должен признаться, в эту историю я действительно вложил добрую часть себя. В то же время, как видите, я здесь, перед вами.
Уверена, ваши друзья очень рады этому, – отвечала молодая женщина.
Думаю, для меня смерть Вертера явилась возрождением, – серьезно сказал поэт.
В самом деле?
Поэт всегда пребывал – и будет пребывать – в процессе возрождения. Признак гениальности?
К великому своему облегчению, она увидела приближающегося Кавалера. Я как раз поздравлял мадам Харт с успехом, – сказал поэт.
Разумеется, блистательный Кавалер – более достойный собеседник для этого высокомерного человека. Пусть мужчины общаются, а она будет слушать.
Однако в беседе с поэтом Кавалер преуспел ненамного более. Они не слишком понравились друг другу.
Кавалер не читал знаменитой слезливой повести о страдающем от неразделенной любви эгоисте, в конце концов решившем застрелиться, – и сильно подозревал, что книга ему бы не понравилась. К счастью, прославленный гость – не только один из самых знаменитых писателей континента и важный министр небольшого немецкого герцогства, у него также есть и научные интересы, главным образом, в геологии, ботанике, ихтиологии. И мужчины принялись говорить о камнях, растениях и рыбах.
Поэт начал со своей теории о метаморфозах растений. Несколько лет я изучал листья, пестики и тычинки многих видов растений, и это дало мне возможность постулировать теорию существования растения-прототипа. С его помощью можно создать бесконечное число растений, каждое из которых вполне может существовать в природе – и многие, кстати, описаны. Здесь же, в Неаполе, когда я гулял по берегу моря, мне пришла в голову новая мысль. А лучше сказать, озарение. Я уверился, что растение-прототип существует в реальности! И после Неаполя намерен отправиться на Сицилию – ведь ее называют ботаническим раем, – где очень рассчитываю его найти. И так далее, и так далее, и так далее.
Едва поэт умолк, разговор подхватил Кавалер, как никогда охваченный страстью к ботанике. Я сейчас занят созданием английского сада в Казерте, на территории дворца. Казерта могла бы составить достойную конкуренцию Версалю, однако я убедил Их величества, что французским стилем не следует чрезмерно увлекаться. И тогда они, следуя моему совету, выписали из Англии самого выдающегося мастера парковой архитектуры. Когда создание прекрасного парка завершится, мы сможем увидеть там Флору во всем ее чудесном многообразии.
Поэт разочарован Кавалером. Он переводит разговор на Италию.
Италия совершенно изменила меня, говорит он. Человек, в прошлом году покинувший Веймар, – совсем не тот, что прибыл в Неаполь и которого вы теперь видите перед собой.
Да, – кивает Кавалер, который интересуется преображением личности (любимая тема поэта) ничуть не более, чем ботаническими или геологическими теориями (при всех своих познаниях в ландшафтной архитектуре и вулканологии). – Да. Полагаю, Италия – самая красивая страна в мире. И, конечно, нет города красивее Неаполя. Доставьте мне удовольствие, позвольте показать, какой восхитительный вид открывается из моей обсерватории.
Красота, обиженно подумал поэт. До чего примитивно мыслит этот эпикуреец-англичанин. Словно помимо красоты в мире ничего не существует! Вот пример человека, не способного вникнуть в суть интересующего его предмета. Обыкновенный дилетант, назвал бы он его, если бы слово «дилетант» не носило лестного оттенка.
Преображение личности, вздохнул про себя Кавалер. Вот пример человека, не способного отнестись к себе серьезно. Кавалеру подумалось, что путешествие по Италии не может до такой степени влиять на личность, и патологический интерес поэта к изменениям в собственной персоне есть не что иное, как проявление чрезвычайного эгоизма.
Оба были правы. Однако из них двоих мы лучше понимаем поэта – его тщеславие для нас более объяснимо, сознание собственной значимости для нас более… значимо. Гению, как и красоте, все – почти все – прощается.
Через тридцать лет, в «Путешествии по Италии», Гёте напишет, что на ассамблее у Кавалера прекрасно провел время. Он слукавит. Он был тогда слишком молод и неутомим, чтобы испытывать недовольство собой. Чтобы досадовать, что ни в одной из бесед он не сумел почерпнуть ничего для себя нового. Но его терзал умственный голод, и он чувствовал, что его недооценивают. Я стремлюсь к самосовершенствованию, писал поэт друзьям. И к удовольствиям – да, и к ним тоже. Удовольствия усиливают мою интуицию. Как сильно он ощущал превосходство над этими людьми! И действительно, как оно было велико.
* * *
В большинстве историй про оживающие статуи статуя является женщиной – часто это Венера, спускающаяся с пьедестала, чтобы ответить на чувства страстного мужчины. Или же статуя – мать, но тогда она скорее всего остается в своей нише. Статуи Пресвятой Девы и женщин-святых не склонны к излишним движениям, они ограничиваются сострадательным взглядом, милосердной улыбкой, ласковым жестом – обращаются, протягивают руку к коленопреклоненному просителю, утешают или защищают его. В крайне редких случаях женщины-статуи оживают, чтобы кому-то отомстить. Зато если статуя – мужчина, его целью почти всегда бывает злое дело или месть. Пробудившись, статуя-мужчина – в современном варианте робот в людском обличье, наделенный способностью двигаться, – отправляется убивать. И тот факт, что он вообще-то статуя, в полной мере оправдывает его неумолимую сосредоточенность на одной страшной цели, позволяет быть жестоким, непреклонным, недосягаемым для искушения или сострадания.
Вот званый вечер. Рафинированная публика, красивые костюмы, открытые платья. Та обстановка, в которой любители званых вечеров получают наибольшее удовольствие. Гости отлично проводят время. Их окружает смешанная атмосфера светского салона и публичного дома – впрочем, из нее изъяты риск и скука, присущие обоим местам. Закуски – и деликатесы, и так, пустячки – превосходные, вино и шампанское – дорогие. Приглушенный свет льстит всякому лицу; музыка, аромат цветов – чаруют, обволакивают. Кто-то дурачится, с некоторым сексуальным оттенком, который и приветствуется, и нет («Мы просто шутим», – говорит новоявленный Дон Жуан, остановленный кем-то, кто заметил его неотвязные приставания к некой женщине). Прислуга проворна и приветлива (в надежде на хорошие чаевые). Стулья мягкие – те, кто сидят, испытывают истинное наслаждение. Это не вечер, а пир для всех органов чувств. Кругом веселье, разговоры, комплименты, флирт. Музыка успокаивает и бодрит одновременно. В кои-то веки боги развлечения на совесть взялись за работу.