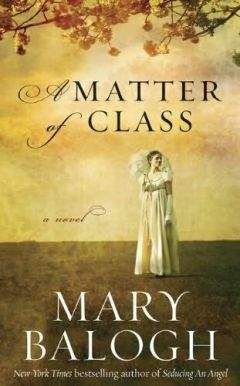На шестой раз я его потрогал. Рука тряслась и потела, но я все-таки положил ее Роджеру на спину и не убрал сразу. Ощущение было другим. Раньше, когда я запускал пальцы в густую шерсть, я чувствовал тепло, чувствовал, как бьется сердце и как дрожат от урчания ребра. А сейчас они были неподвижны. И усы были мертвые. Глаза мертвые. Мертвый хвост. Куда девалась вся жизнь?
У меня жгло не только горло, но и щеки – только что были ледяными, и вдруг их залил нестерпимый жар. Я погладил Роджера по голове. Сказал, что люблю его. Сказал: «Прости, пожалуйста». Он не мяукнул. На снегу я заметил след от шин. Глубокий, короткий и косой – кто-то ударил по тормозам, и машину занесло.
Боль переросла в ярость. С диким криком я вскочил на ноги и набросился на следы шин. Топтал, плевал на них. Хватал горячими руками снег и швырял в небо. Потом упал на колени и со всей силы врезал по следам кулаком. Боль принесла облегчение. Из ссадины на костяшках пошла кровь. Я снова хватил по дороге.
Если бы я не поехал на конкурс талантов, Роджер был бы жив. Я бы заметил, что его нет дома, и пошел бы его искать, и он примчался бы ко мне и потерся о мои сапоги, и его шерсть блестела бы в лунном свете. Но я все думал, думал о маме и не вспомнил про Роджера.
Я встал. Ноги дрожали. Подошел к Роджеру. Мне уже не было страшно. Хотелось взять его на руки. И не выпускать. Прижимать к груди и гладить, гладить. И говорить все то, что следовало сказать раньше, когда он еще мог меня слышать. Я поднял его, очень бережно, как будто он был одной из коробок, помеченных словом СВЯТОЕ. Голова Роджера повисла, я положил ее себе на плечо. Я прижимал его к себе и гладил по спине, по голове. И тихонько качал, как мамы качают малышей.
Нет у меня больше кота. Он умер. Умер. Жар, обдиравший горло, обжигавший щеки, добрался до глаз. Они стали мокрыми. Нет. Они заплакали.
Я плакал. Первый раз за пять лет. И серебряные слезы капали на рыжую шерсть Роджера.
Он был ужасно холодный. Слишком долго пробыл на улице. Я расстегнул куртку, положил Роджера за пазуху и снова застегнулся, чтобы укрыть его от ветра и начавшегося снегопада. Из ворота куртки высовывалась морда, я тихонько поцеловал ее. Холодные усы пощекотали мне губы.
Я понес Роджера домой, аккуратно обходя скользкие места, чтоб не упасть. Сквозь слезы я еле разглядел наш дом и по дорожке сразу пошел в сад. Шел и говорил с Роджером – рассказывал про конкурс, про то, как замечательно пела Джас, про то, что только теперь я понял слова песни, и про то, как они меня изменили. Сказал, что мне хотелось, чтобы мама нами гордилась, и поэтому – только поэтому! – я выставил его из гостиной. Объяснил, что запер дверь, потому что мы репетировали, а я так мечтал понравиться маме. Дурак был. Потом-то до меня дошло, что все зря, да только поздно дошло.
– Мама врунья. Она меня бросила, и, что бы я ни делал, она все равно не будет меня любить, – шептал я Роджеру и все ждал: сейчас он мяукнет или заурчит, чтоб я знал, что он меня простил. Но он молчал.
Я подошел к пруду. Что дальше? Похоронить Роджера? Ни за что! Чтобы он лежал под землей, гнил… Меня чуть не стошнило. Я крепче прижал Роджера к себе. Я был готов вечно держать его на руках, и пусть он зальет мне кровью всю футболку.
Но надо же было что-то делать. Роджер заслуживал достойного конца. Я подумал о Розе на каминной полке. Хорошо бы и моего кота туда. Я представил рыжую урну с прахом Роджера. Можно было бы разговаривать с ним, и гладить, и обнимать, когда захочется. И вдруг у меня словно глаза открылись. Я понял, почему Роза живет в урне на каминной полке. Почему у папы не хватает духу развеять ее над морем. Почему он дарит ей торты на день рождения, почему пристегивает ремнем в машине и почему на Рождество подвешивает чулок возле урны. Он не может отпустить ее. Он так сильно любил ее, что не может расстаться.
Я упал на коленки, зарылся лицом в рыжую шерсть и рыдал, пока не перехватило дыхание. Из носу текло, в голове шумело, лицо опухло, а я все рыдал и никак не мог остановиться.
Сзади распахнулось окно, и папа позвал:
– Джейми, домой! Холодно.
Я не тронулся с места.
Если нельзя оставить себе самого Роджера, пусть у меня будет хотя бы его пепел. Я нашел две палки, одну зажал ногами, другую взял в правую руку и принялся тереть палкой о палку. Левой рукой я прижимал Роджера и пел ему в ухо, чтоб он не услышал, как трутся палки, и не испугался. Ничего, однако, не вышло. Палки были сырыми, не загорались.
Я услышал, как открылась задняя дверь, и обернулся. Папа.
– Холодно же, – сказал он и оборвал себя. – Роджер!
Папа поставил меня на ноги и обнял, в первый раз на моей памяти. Крепко-крепко обнял. Как будто защищал. И я уткнулся ему в грудь. Плечи у меня тряслись, всхлипы раздирали горло, я замочил слезами всю папину футболку. Он не говорил мне: «Ну-ну, успокойся», не спрашивал: «В чем дело?» Знал – как больно говорить вслух.
Когда я выплакал все слезы, папа похлопал меня по спине и расстегнул мою куртку. Я не мешал ему. Он взял у меня Роджера – мягко, медленно, бережно – и опустил на землю. Тронул его веки и осторожно прикрыл их. Остекленевшие шарики исчезли. Казалось, Роджер крепко спит.
– Подожди здесь, – сказал папа.
С грустью в глазах, но с решительно сжатыми губами он скрылся в доме. Минуту спустя вернулся, неся лопату и еще какой-то небольшой предмет, который он сунул в карман.
– Сожжем его… – начал я, но папа перебил:
– На снегу нам костер не развести.
Я попытался поднять Роджера, забрать отсюда. Не хотел, чтобы моего кота закопали в землю. Папа схватил меня за руку.
– Его больше нет, – сказал он и кивнул сам себе. Глаза его наполнились слезами, но он глубоко вздохнул и сморгнул их. Снова кивнул, словно принял важное решение. Начал копать. Сказал: – Что бы то ни было, оно исчезло. – Голос его звенел печалью, которая была мне понятна.
Быстро не получилось. Земля затвердела. Пока папа работал, я гладил Роджера по голове и все повторял, как я его люблю. Слезы, оказывается, не кончились, текли и текли по щекам. Я не хотел, чтобы яма стала нужной глубины, не хотел, чтобы папа бросил лопату. Я еще не был готов к расставанию. Откуда-то появилась Джас. Я даже не заметил когда. Только что ее не было – и вдруг сидит рядом со мной на корточках, тихонько плачет, гладит окровавленную шерсть Роджера. Волосы у нее опять ярко-розовые. Перекрасилась.
Папа слишком быстро закончил.
– Все, – сказал он. – Ты готов?
Я затряс головой.
– Мы с тобой одновременно это сделаем, – прошептал он и вынул из кармана тот небольшой предмет. Золотую урну. – Вместе сделаем…
Миссис Фармер говорила, что иногда бывает слишком холодно для снега. Именно такое было у папы лицо – слишком печальное для слез. Он подошел к пруду. Джас встала, плотно обхватила себя руками. Я поднял Роджера. Папа открыл урну. Солнце светило ярче, чем утром. Его лучи играли на золотой урне, и она вся сверкала.
Я подошел к яме. Папа вытряхнул на ладонь немножко Розы. Нет, не Розы. Розы больше нет. Папа вытряхнул на ладонь немного пепла. Я опустил Роджера в могилу. Папа глубоко вздохнул.
Я тоже вздохнул, только еще глубже. На пару секунд все замерло. Чирикнула птичка, ветер качнул голые ветки яблони. Папа разжал руку. И не сказал: «Прощай». Теперь уже незачем было. Роза ушла давным-давно.
Пепел покружил над прудом, мешаясь со снегом, падающим с неба, опустился на воду и утонул. Возле листа лилии проплыла моя рыбка. Я взялся за лопату, подцепил ком земли. Ладони, сжимавшие металлический черенок, взмокли. Я держал лопату над ямой и не мог перевернуть. Не мог высыпать землю прямо на своего кота. «Роджера больше нет, – сказал я себе. – Его нет. Это не он. Роджер исчез». Слова не помогли. Я не мог отвести глаз от черного носа, от серебряных усов и длинного хвоста. Мне хотелось вытащить Роджера из могилы. Я еще не привык к тому, что он умер.
Папа опять наклонил урну. Новая порция пепла высыпалась на его ладонь. Сжав зубы, папа перевернул руку. Пепел Розы упал в пруд. Если папа смог, значит, и я смогу. И я ссыпал землю в могилу.
На Роджера не смотрел – не мог видеть, как под комками мерзлой земли исчезает его тело. Я прошептал:
– Я тебя люблю. Ты всегда будешь самым лучшим моим котом. Я буду по тебе скучать. – И принялся быстро-быстро закапывать могилу. На папу не оглядывался. Потому что, если б я прервался хоть на одну секунду, у меня не хватило бы духу продолжать.
Я прихлопал холмик поровнее и отшвырнул лопату, словно она была заразной. Неужели я своими руками это сделал? Я был сам себе противен, и весь мир был мне противен. И в животе у меня было противно, и в сердце, и в голове. Джас обнимала меня за плечи, а я ревел. Роджера больше нет! Я никогда его не увижу. Думать об этом было невыносимо. Я отогнал страшные мысли, вытер глаза и заставил себя посмотреть на папу. Он все еще стоял у пруда и сыпал в воду пепел Розы. Крошку за крошкой.