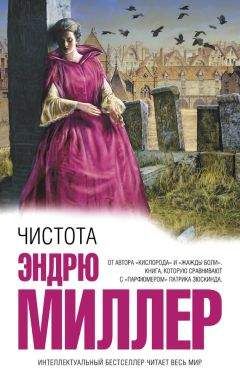– Значит, они умерли девственницами, – говорит Лекёр с некоторым благоговением в голосе.
– Немногие из местных красавиц умирают девственницами, – откликается Арман.
– Возможно, вы правы, – отвечает лекарь. – Я еще не удостоверился, intacta[12] Шарлотта или нет. Но что касается второй, то мы с доктором Туре обнаружили некоторые признаки беременности.
– У нее в утробе был ребенок? – спрашивает Жан-Батист.
– Не могу этого утверждать. Внутренние органы по консистенции стали похожи на древесную пульпу или папье-маше. Однако имеются некоторые косвенные признаки.
– Что вы будете с ней делать? – спрашивает Арман. – С вашей Шарлоттой? Искромсаете, как и ту, другую?
– Думаю, – говорит доктор Гильотен, – будет лучше, если я попробую ее сохранить. Можно было бы построить для нее стеклянный ящик. Продемонстрировать ее в Академии.
– А сохранится ли тело, – спрашивает Жан-Батист, – после того, как его вновь извлекли на воздух?
Доктор пожимает плечами, затем смотрит куда-то поверх плеча Жан-Батиста и улыбается.
– Тебе тоже любопытно взглянуть? – задает он вопрос.
Остальные оборачиваются. У входа в лабораторию стоит Жанна. За исключением доктора Гильотена, всем мужчинам становится немного не по себе, словно они сами удивились охватившему их неподобающему энтузиазму.
– Я подумала, вдруг вам что-нибудь нужно, – отвечает девушка. Она не входит в лабораторию и не приближается к ящику. Через несколько секунд Гильотен и Лекёр осторожно кладут крышку на место.
В новой общей могиле местных красавиц не обнаруживается. По мере погружения (это самая глубокая могила из трех: двадцать два метра, судя по последнему замеру отвесом) попадаются в основном развалившиеся гробы, а их обитатели давно перемешались друг с другом. До середины недели люди работают до восьми, а то и до девяти вечера: копают, вынимают и складывают при свете факелов, фонарей и костров. Наконец в субботу – в тускнеющем закатном небе заметно безмятежное сияние какой-то планеты – извлекают последнего погребенного. Те, что в яме, поднимают головы, а те, что наверху, глядят вниз. Инженер приказывает прекратить работу. И просит Лекёра собрать горняков у креста проповедника, потом сам вместе с ним поднимается по винтовой лестнице и объявляет о своем решении: всякий раз, когда очередная общая могила будет очищена, по окончании работы каждый шахтер получит премию в тридцать су. Накануне вечером Жан-Батист производил вычисления, меняя цифры в аккуратно зачеркнутых столбиках, пока не вывел нужную сумму.
– И вот еще что, – добавляет он, подбирая подходящий тон, чтобы отеческая снисходительность сочеталась в его голосе с грубоватой сердечностью и практичностью. – Завтра мы откроем двери кладбища, и вам будет разрешено выйти в город. Вернуться следует до заката, ибо на ночь мы снова запрем ворота. А сегодня вечером ворота могут открыться на час – на случай если кто-то из наших знакомых пожелает зайти в гости.
Лекёр хлопает в ладоши. Наверное, он ожидает, что к нему присоединятся рабочие, дабы продемонстрировать инженеру свою признательность, однако никаких других звуков не слышно, кроме приглушенного бормотания и шарканья сапог. Поняли ли горняки, что им было сказано? Жан-Батист смотрит на Лекёра, но до того, как он успевает спросить совета или попросить друга перевести свою речь на рокочущий фламандский, Лиза Саже начинает бить поварешкой по кастрюле, и рабочие друг за другом уходят в палатки за ножами и мисками.
– Это ты хорошо придумал сделать им выходной, – говорит Лекёр, когда они спустились со ступенек. – Ребята обрадовались.
– Ты уверен?
– Я это ясно видел.
Жан-Батист кивает. Он-то ясно увидел совсем другое: утром в понедельник он стоит тут один без шахтеров или с полдюжиной оборванцев, одуревших от пьянства и обобранных до нитки. Да, эти люди, возможно, крепки, как янычары, но им не справиться с тарабарщиной и ловкостью рук местных мошенников. Однако если и дальше держать рабочих взаперти, случится бунт, и его уже не усмиришь табаком и глиняными трубками. На шахтах – сам он, правда, этого не видел – рабочие, по рассказам, случалось, бросались на первого встречного-поперечного, крушили машины, поджигали здания, даже осаждали квартал, где живут управляющие, пока не появились вооруженные стражи порядка. Большинство горняков, как и он сам, – люди с севера. Долго запрягают, но уж коли на них найдет…
Через час после ужина появляются женщины, сначала осторожные – голова самой смелой первой просовывается в полуоткрытую дверь с Рю-о-Фэр, – потом ворота открываются настежь, и женщины решительно входят, выкрикивая нежные словечки и приветственно махая горнякам.
Лекёр, Арман, Жанна, Лиза Саже и Жан-Батист смотрят на них, скрытые ночной тенью, пролегающей, точно ров, вдоль западной стены церкви. Женщин трудно сосчитать. Лекёр говорит, их двенадцать. Арман уверяет, что на одну больше, потом называет некоторых: Симона, Марианна и еще вон та худышка, позади всех, по прозвищу Дюймовочка. Самая юная выглядит не старше Жанны, а самая старшая – крупное, грубое создание с голосом сержанта, с виду почти бабушка – ковыляет, хромая, по неровной земле с мрачной целеустремленностью.
Шахтеры ждут, словно экипаж заколдованного корабля. Женщины, точно волны, омывают толпу, проходя сквозь нее. И вот в свете костра начинается праздник. Мужчины передают по кругу бутылки и оловянные кружки с коньяком. Женщины пьют, начинают вести себя, как и положено, все более разнузданно, выбирают себе партнеров, называют цену. Первые парочки удаляются в темноту, взявшись под руки, как это делают любовники всего мира. Те же, кто наблюдал за ними, стоя тихонько у церкви (вроде открывателей новых земель, что под созвездием Южного Креста следят за ритуалами туземцев на берегу океана), удаляются в дом пономаря. На кухне по обе стороны от очага сидят Манетти и Блок, пономарь спит, положив голову на спинку стула, Ян Блок, погруженный в полудрему, при их появлении слегка вздрагивает и отвечает на кивок инженера неловким, но почтительным кивком.
Вошедшие садятся за кухонный стол. И здесь тоже стоит коньяк. («Везде коньяк, – думает Жан-Батист. – Дойдет до того, что по нему буду я сплавлять кости к Вратам ада»). Они начинают разговор, но в беседу врываются доносящиеся со двора смех и улюлюканье. Им никак не сосредоточиться. Дух плотских наслаждений со всех сторон подкрадывается к домику, словно клочья голубого тумана.
– Нужна музыка, – говорит Лиза Саже и начинает петь простеньким, но приятным голосом – милым, детским, совсем не похожим на ее обычный голос. Арман подхватывает. Лекёр с воодушевлением, но невпопад отбивает такт на столе. Просыпается пономарь, у него вид человека, вдруг не признавшего собственный дом. Жанна успокаивает деда, поглаживая его сморщенные загорелые руки.
Арман тянется за пальто.
– Нам и вправду нужна музыка, – говорит он. – Заглянем-ка в свечную лавку старого Кольбера. Вы двое, – он указывает на Жан-Батиста и Лекёра, – будете раздувать мехи, дамы красиво рассядутся, а я, главный музыкант, сыграю для вашего удовольствия.
Пока Жан-Батист соображает, как убедительнее возразить на нелепую выдумку Армана, остальные уже застегивают пальто. Смотрят на него. Против таких взглядов трудно устоять. Он встает, пожимая плечами. Если ему не остановить их, он по крайней мере проследит, чтобы компания держала себя в руках, хотя неожиданная возможность услышать орган – этот выход за рамки дозволенного – пробуждает в нем естественное желание пойти со всеми, и он делает это с охотой, даже с удовольствием.
Они открывают дверь в южный неф. Арман идет первым, держа фонарь высоко над головой, и его неяркий свет падает на стены, плотно покрытые латинскими фразами, датами, картинами, гербами. Остальные, шаркая, гуськом следуют за ним. Шепот витает над их головами. Из темноты к ним склоняются ненадолго выхваченные светом фонаря неясные образы. Кое-где мерцает сохранившейся позолотой крыло архангела. Дева Мария с желтоватым, полным тайной радости лицом пристально смотрит с колонны…
В одной из капелл Арман вытаскивает из железного ящика свечи и передает идущим за ним. Те, сгрудившись, зажигают сначала одну свечу, а потом каждый свою от свечи соседа. Когда становится светлее, Жан-Батист замечает, что у другой стены составлены в ряд с полдюжины больших коробов, а в них в аккуратных плетеных корзинках лежат бутыли из толстого зеленоватого стекла. Внутри какая-то крепкая жидкость. К горлышкам бутылей проволокой прикручены этикетки. Жан-Батист, наклонившись со свечей в руке, читает название.
«Этанол».
Он отскакивает так быстро, что свеча гаснет.
– Это ты их здесь поставил? – шипит он на Армана.
– Эти-то? Их привезли на прошлой неделе. Что-то нужное нашим приятелям докторам.
– Это же этанол! Чистый спирт. Если поднести к ним огонь, можно спалить всю церковь.