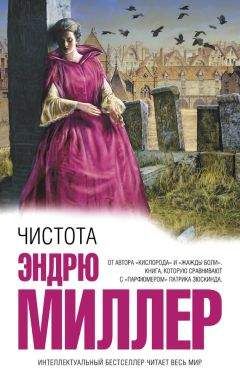Они уже давно съели хлеб и выпили кофе. Сложили дрова рядом с крестом проповедника, чтобы в их отсутствие было что подбрасывать в костер. Все готовы. И уже начинают нервничать.
Стоя у дома пономаря, Лекёр, морщась, глядит на часы и что-то негромко бормочет. Надо же, чтобы Баратт вздумал проспать именно сегодня – именно сегодня, когда это так некстати. Конечно, в своем уютненьком гнездышке ему ничего не стоит забыть про них, про тех, кто живет внизу. Рабочие, однако, истолкуют отсутствие инженера не в его пользу, если им и дальше придется терять под дверью драгоценное время. И коли уж на то пошло, Лекёр и сам истолкует это не в его пользу. Ночью Лекёр выпил пятьдесят капель настойки! А может, и больше, и лишь Господь ведает, сколько еще вина, чтобы залить докторское снадобье, но вместо того, чтобы погрузиться в спокойный сон, превратился в какого-то совершенно незнакомого человека. Он чувствовал – как бы это объяснить? – что он, Лекёр, уже не Лекёр, а только тело Лекёра, плоть с бьющимся сердцем, и нечто, некий агрессивный разум, поселившийся в нем, побуждает его к действиям и руководит ими. Разве настоящий Лекёр решился бы выйти на двор среди ночи? Решился бы? Вот уж вряд ли. Однако он все-таки вышел в одной ночной рубашке и направился в лабораторию, а там поднял крышку гроба и при свете горящей головешки из костра, которая, словно по волшебству, оказалась у него в руке, стал глядеть на нее, на Шарлотту. Ужасное возбуждение! И большая нагрузка на сердце. Да и на зубы тоже, ибо, судя по тому, как теперь болят челюсти, он наверняка скрежетал ими не один час.
Сзади слышатся мягкие шаги. Он оборачивается и видит Жанну с шалью на плечах, которая выходит из дома и направляется к нему. Она ему улыбается, милая, как всегда, но сегодня у нее не такой хороший цвет лица, нет той ладности в движениях, как обычно.
– Странно, что его все нет, – говорит она.
– Возможно, он вчера выпил больше, чем следовало, – отвечает Лекёр.
– Не думаю, – разумно возражает она.
– Конечно, нет, – говорит Лекёр. – Вероятно, его задержало какое-то неожиданное дело. Встреча с этим Лафоссом, к примеру. С человеком министра.
Она кивает.
– Вы тоже сегодня пойдете в город?
– Наверное, пойду, – говорит Лекёр. – Месье Сен-Меар пригласил меня сходить куда-то вместе с его друзьями. Он не сказал, куда именно.
– Не сомневаюсь, вы хорошо проведете время, – говорит она. – У вас есть ключ?
Он показывает ей ключ – старинный ключ от дверей лежит у него на ладони.
– Мне кажется, месье Баратт хотел бы, чтобы вы их выпустили, – говорит она.
– Ты думаешь?
– А вы нет?
– Пожалуй, ты права.
Он смотрит на рабочих, на секунду оскаливает зубы, затем переводит взгляд на девушку.
– Выпустим их вместе? – предлагает он.
Вскоре пробуждаются соседи и спешат к этому месту, однако оно уже более не гибельное, но романтическое.
Каде де Во. «Исторические и физические мемуары о кладбище Невинных»
Каменные ступени, длинный пролет лестницы, круто уходящей вниз. Подвал. Понимание, что находится внизу, что должно там находиться.
Сначала слишком темно, поэтому он не видит, не признает ничего вокруг. Только спуск, ощущение ступеней под ногами. Потом мягкий розоватый свет, узкий зал, стол, а на нем жестянка и маленький колокольчик. За столом сидит женщина. Она не поворачивает к нему лица, но понимает, что он пришел. Она звонит в колокольчик, и хотя звука не слышно, занавес в конце зала тут же отодвигается. Ему улыбается какой-то мужчина и кивком приглашает следовать за собой…
Они в коридоре. По обеим сторонам висят портьеры, скрывающие, по всей вероятности, входы в комнаты. Он останавливается – в том месте, где портьера неплотно задернута, – и заглядывает внутрь. Перед ним как будто и не совсем комната. Похоже, что стены тут из утрамбованной черной земли. Размеры помещения неопределенные, как и количество находящихся в нем людей – мужчин, женщин и детей, они сидят, лежат, некоторые свернулись калачиком. Люди тоже смотрят на него. В их взглядах какая-то горячность. Горячность, неистовство и бессмысленность. Он отворачивается. Боится, что кто-нибудь из них заговорит, обратится к нему, назовет его имя…
Провожатый ждет в конце коридора. Снова портьеры. Любезный жест, приглашающий войти. Он входит. Провожатый закрывает за ним дверь. То, что должно произойти, произойдет в эту минуту и в этом месте. Ему кажется, что они пришли в его комнату в доме Моннаров или в какую-то очень похожую, но другую, ибо в ней нет окна и голые стены. Комнату освещает только большая свеча на столе. На кровати лежит человек. На нем лишь рубаха, которая доходит ему до колен. Глаза открыты, но рот неаккуратно зашит черной ниткой.
Провожатый берет со стола свечу и подходит к кровати. «Это быстро, – говорит он. – Мы должны выпустить флогистон. Это средство для трансформации. Уничтожает все нечистое».
Он наклоняется и, словно желая влить нечто драгоценное в ухо лежащему на кровати человеку, подносит фитиль к его волосам. Голова моментально вспыхивает, волосы полыхают, точно сухая трава. Потом огонь начинает лизать лицо, охватывает шею, бежит по груди, животу. Как может так гореть человеческое тело? Человек не должен сгорать, как свернутый в трубочку лист бумаги! Что с ним сделали? Какой способ применили?
Охваченное пламенем тело начинает двигаться. Сначала рука, потом нога. С горящих простыней поднимается – всплывает! – туловище. Рвется сшивающая губы нитка. Рот распахивается. И человек ревет, ревет…
– Держи его так, чтоб не двигался, – велит Гильотен.
Доктор наклоняется над кроватью. Черная нитка лежит на лице больного, словно тонкая трещина. Мари наваливается на брыкающиеся ноги. Она хорошая, сильная девица, как раз годится, чтобы держать раненого. Врач начинает работу.
Жизни больного первые двое суток угрожает опасность, очень серьезная опасность. Если из мозгов льется кровь, надо что-то делать – на Рю-Сент-Оноре живет врач, у которого имеется прекрасная дрель, но успеют ли его привести? За больным наблюдают постоянно. Мари, Жанна, Лиза Саже, Арман, Лекёр. Каждое утро, а потом еще раз в конце дня заходит Гильотен. Стоя над больным, он взвешивает его шансы выжить, глядит на церковь кладбища Невинных, предается размышлениям о Человеке, о голове и сердце, о том, что движет миром. Старым миром и тем, который, возможно, грядет.
* * *
Несмотря на постоянно сменяющих друг друга дежурных, когда инженер наконец открывает глаза, он может поклясться, что комната пуста. Лежащая на подушке собственная голова кажется ему мертвым грузом, собранным в кулак живым хрящом, который прирос к пеньку шеи. Боль ушла с поверхности и укрылась в белых глубинах его мозга. Ее пульсация вторит пульсации крови. При каждом ударе сердца Жан-Батист морщится. Приоткрыв дверь, заглядывает мадам Моннар. Видя, что его глаза открыты, что он, вероятно, ее видит, она очень быстро ретируется.
– Кто я?
– Вы? Вы доктор.
– А как меня зовут?
– Гильотен.
– Хорошо. А вас?
– Баратт.
– А как зовут нашего короля?
– Людовик.
– Вы помните, что с вами случилось?
– Немного.
– Немного?
– Достаточно.
– Нас посетил месье Лафосс, – рассказывает Лекёр. (Сколько часов прошло? Сколько дней?) – Думаю, доктор Гильотен рассказал ему о твоем… несчастье. Он поручил мне продолжить работу. Сказал, что не годится, чтобы рабочие бездельничали. Что время – деньги.
– Зигетта? – шепчет Жан-Батист, но его почти не слышно.
– Гляди-ка, – продолжает Лекёр, – Жанна прислала тебе лекарство. По-моему, какие-то травы. – Он показывает бутылочку. У него на руках мелкие черные пятнышки, явно от краски, которая не желает смываться.
– Наверное, приворотное зелье, – говорит Арман, который, оказывается, тоже в комнате, однако вне поля зрения инженера.
– Какой сегодня день? – спрашивает больной.
– День? Сегодня среда. Утро среды, – отвечает Лекёр.
Мари сидит на стуле у кровати и что-то ворошит у огня. Ему не хочется поворачивать голову, чтобы посмотреть, что именно. Любое неосторожное движение головой – и весь мир начинает дрожать и качаться.
– Зигетта? – спрашивает он.
– Что вам до нее? – говорит она. – Боитесь, снова явится? – И, не услышав ответа, добавляет: – Это ведь я вас спасла.
Свет в его окне – это белая простыня, застиранная белая простыня, которую складывают каждый вечер и снова вывешивают на рассвете. Постоянно у него больше никто не дежурит. Оставшись без присмотра, Жан-Батист тайком вылезает из кровати и сидит десять минут на стуле, держась за сиденье. На следующий день сидит уже полчаса. Теперь это как упражнение. Иногда, когда на него накатывает жалость – к самому себе, к суровому отцу, к призрачным жизням незнакомцев, к хладным кладбищенским костям, – он странно кривит рот, будто плачет без слез. Но бывает, он совершенно бесчувственен, спокоен и бесчувственен, пока окружающая сырость, его собственное дыхание и сквозняки не пробуждают его к жизни. Он разглядывает свои ладони, смотрит в камин, внимательно изучает картинку с изображением моста. Переводит взгляд на окно: тучи такого же цвета, как море в Дьеппе. Кто он такой, спрашивал доктор. Он Адам, один в своем саду. Он Лазарь, вынутый из гроба. Одна его жизнь отделена от другой провалом тьмы.