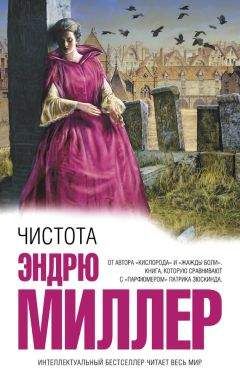Жан-Батист тяжело опускается на него, на миг зажмуривает глаза, потом медленно снимает шляпу.
– Вы все еще очень бледны, – говорит она.
– Он и раньше был бледный, – заявляет Арман.
– Вам лучше сейчас посидеть дома, – продолжает Жанна, быстро подходя к очагу, где на кафеле у огня стоит кофейник.
– Дома-то, – говорит Арман, – ему и раскроили голову. Что ж тут удивительного, если он чувствует себя спокойнее на кладбище?
Кофе чуть теплый, а без аромата и вовсе не имеет вкуса, но Жан-Батист залпом выпивает кружку и протягивает, чтобы ему налили еще.
– Твой дедушка? – спрашивает он.
– Отдыхает, – говорит Жанна.
Ее карие глаза смущенно поглядывают в серые глаза инженера. Интересно, о чем она думает. Последнее, что он помнит в связи с ней, в связи со всеми остальными, – это то, как они шли в церковь, где Арман собирался играть на органе. Нападение произошло в ту ночь? Или в следующую? Или на неделю позже?
– Работа по вывариванию наших друзей, извлеченных с того света, – говорит Арман, – совсем уморила старика. Мне и самому муторно делается, стоит только такое вообразить.
– Эта колбаса съедобная? – спрашивает Жан-Батист.
Берет кусочек, кладет его в рот. Свинина и свиное сало твердые, точно монеты.
Арман захлопывает ноты. Повернувшись на стуле, смотрит на инженера – смотрит, как он жует, а потом глотает.
– Неужели я такой интересный? – спрашивает Жан-Батист.
– Интересный? Ты прекрасно знаешь, что ты показался мне интересным в тот же миг, как вошел в церковь. Признаюсь, меня заинтриговал результат, которого добился твой хирург.
– Ты о Гильотене?
– Я о Зигетте Моннар. Похоже, она тебя прикончила.
Вдоль всей раны Жан-Батиста на мгновение натягиваются стежки шва.
– Она намеревалась это сделать, – говорит он.
– Но тебе требовалась какая-то встряска, мой друг. Ты еще не совсем сформировался… Не новый ли на тебе костюм? Ты видела, Жанна? Черный как ночь! Браво! Наконец-то он раскрыл свое истинное лицо доброго кальвиниста, что я всегда и подозревал. Ты знаешь, что его мать принадлежала к этому вероисповеданию?
– Моя мать… – начинает Жан-Батист, обращаясь к каменному полу под ногами, – моя мать…
И замолкает. У него нет желания пикироваться с Арманом, не в том он состоянии. Выпив вторую кружку кофе, он поднимается и идет наверх повидать Манетти. Недолго сидит рядом со спящим стариком, затем, спускаясь по лестнице, вдруг чувствует головокружение и не валится вниз только потому, что успевает схватиться за перила.
– На сегодня с тебя довольно, – говорит Арман, твердой рукой беря его за локоть и выводя из домика. – Кладбище твое, как и прежде. Бедняга Лекёр тут без тебя совсем было запаниковал.
– Мне надо с ним поговорить… – просит Жан-Батист.
– Завтра успеется.
– Я приду утром.
– Не сомневаюсь.
– В рабочем костюме, если его найду.
– Мы будем тебя ждать. А я даже постараюсь не дразнить тебя денек-другой, – улыбается Арман.
– Когда это случилось, – произносит Жан-Батист быстро и тихо, глядя поверх плеча Армана на арки склепов южных галерей, – когда она меня ударила… то есть уже после удара, прошло несколько секунд, прежде чем я потерял всякую чувствительность. Совсем мало времени, но мне хватило. Хотелось… за что-то зацепиться. За какую-то вещь. Понимаешь, я думал, что умираю. Мне было нужно что-то, чтобы с этим справиться.
– И что ты нашел?
– Ничего. Вообще ничего.
Серый свет и серые камни на Рю-о-Фэр. Черные фигуры птиц на остроконечных крышах. Слева от него угол Рю-де-ля-Ленжери, справа – Рю-Сен-Дени. У фонтана худая, ободранная собака лакает из лужи. Чувствуя, что на нее смотрят, она поднимает голову – с морды стекает вода, – потом поворачивается и ковыляет на Рю-Сен-Дени, там приостанавливается, словно решая, какая часть света ее зовет, и пускается на север к предместью.
Инженер идет следом, вливается в уличный поток, неловко останавливается, так что сразу же мешает проходу. Собаки уже не видно, но ему и не надо. Теперь он знает, что делать, хотя человеку, который всегда гордился своим образованным и ясным умом, немного неловко опускаться до магических ритуалов. Он отправится вверх по Рю-Сен-Дени. Сделает круг и дойдет до церкви Святого Евстафия. Пройдет, насколько удастся, тем же путем, которым шел той ночью малевать надпись с Арманом и его дружками-подкидышами, той ночью, когда в тумане он оказался наедине с Элоизой. Он повторит этот путь, найдет ее снова и скажет то, что должен сказать. Он еще не облек это в слова, но как только она окажется перед ним, слова, без сомнения, потекут сами собой, словно подсказанные Святым Духом.
Он идет сквозь стайку белошвеек – шумных румяных девушек, направляющихся к реке после того, как двенадцать часов кряду они сидели на скамьях и, щурясь, следили за движением иголки. На Рю-Сен-Дени наступает время отдыха, когда работа приостанавливается и появляется возможность оторваться от ежедневной рутины и урвать хоть немного удовольствий у недолгого зимнего вечера. В питейном заведении Жеко уже полно народу. Двое привратников скучают, прислонившись снаружи к стене, подобно испанским грандам Золотого века. Литейщики, цветочницы, чистильщики обуви, продавцы тростей, нищие, уличные скрипачи, наемные сочинители – даже если кто-то из них и замечает инженера, бледное напряженное лицо раненого, даже если за те мгновения, пока они успевают сделать шаг или два, он кажется им забавным или, напротив, внушает тревогу, то всех их очень быстро уносит дальше к новым впечатлениям. Он, конечно же, обречен быть совершенно стертым из сознания прохожих – за исключением тех моментов, когда задевает плечом мужчину или женщину, спешащих в людском потоке ему навстречу. Жан-Батист смотрит вперед как можно дальше, смотрит и старается не поддаться растущему подозрению, что все это – все то, что он сейчас делает, – сводится лишь к последствиям травмы, непредсказуемым и долговременным, о коих предупреждал его доктор Гильотен. Но вот когда он отошел от фонтана всего метров на триста, перед ним мелькает что-то красное – почти пурпурное при таком освещении – и заставляет сначала замереть на месте, а потом еще быстрее ринуться вперед.
Он взволнован, что нашел ее так легко. У него нет времени стряхнуть по пути остатки головокружения, собраться с духом. Его будоражит мысль, что магия подействовала…
Женщина слишком далеко, нет смысла ее звать, к тому же она движется в том же направлении, что и он, на север. На целую минуту он теряет фигурку из виду, ее заслоняет бредущая пара вьючных лошадей, но вскоре он снова находит ее глазами – женщина стоит у витрины магазина, приблизив лицо к стеклу. Он знает это место, двадцать раз проходил мимо. Там продаются такие штуки, ну, эти самые – господи, у него на голове как раз такая! – но только для женщин и девушек. Ленточки и прочее, углубления для головы, разноцветные перья…
– Элоиза!
Он крикнул слишком рано, его голос не долетает до нее, хотя какая-то тетка у него за спиной, одна из тех преждевременно состарившихся рыночных старух, статью напоминающая селедочную бочку, отлично его расслышала и повторила его крик на удивление точно – жалобно и хрипло:
– О, Элоиза!
Жан-Батист оборачивается, скорее смущенно, чем сердито. Кто она такая? Он ее знает?
– Эй, королевочка! – зовет другая, как две капли воды похожая на первую. – Ты что, не видишь, тебя господин подзывает?
Но Элоиза все не слышит, все смотрит на витрину, не замечая сцену, которая разыгрывается на улице, приближаясь к ней.
– Не хочет, чтобы корзинщик ее приревновал, – говорит третья. – Или книготорговец. Или твой старик!
– Если мой старик на нее посмотрит, я сварю ему на обед его собственные яйца!
Теперь Элоиза оборачивается и глядит на них, спокойная и уверенная в себе, а они подходят все ближе. Что бы она ни чувствовала – злость, страх, удивление, – никакие эмоции не отражаются у нее на лице. За полтора или два метра инженер останавливается.
– Язык проглотил, – говорит первая.
– Ему не язык будет нужен, – говорит вторая, хохоча над своей шуткой.
– Это же он! – слышится мужской голос. Косматая голова высовывается из окна неосвещенной комнаты соседнего с магазином дома. – Тот самый, который раскапывает кладбище.
– Ты уверен?
– Конечно, уверен, черт меня побери! Вы только на него гляньте!
– Похоже, он хочет, чтобы ему перепало тех же удовольствий, что и его рабочим, – раздается новый голос – женский и более молодой.
– Я искал тебя, – говорит Жан-Батист Элоизе. – Хотел… поговорить.
При слове «поговорить» слушатели радостно гогочут.
– Надобно показать ей, какого цвета у тебя денежки, голубчик. Боже правый! Он, наверное, в таких делах еще ничего не смыслит.
– А как же дочка Моннаров? – спрашивает та, что помоложе. – Разлюбил и бросил?