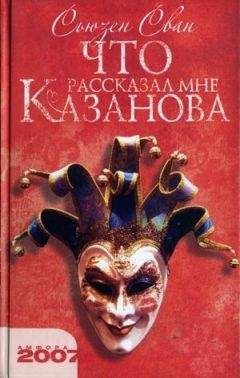Люси позволила Ли отвести ее к маленькой православной церкви, где они сели на скамейку возле двери.
– Это действительно слова из дневника твоей родственницы? – спросила Ли, когда они сели.
– Нет, это из письма Казановы.
– Правда? Ну что ж, они прозвучали очень к месту. А теперь, Люси, ответь мне на один вопрос.
– Да?
– Ты все еще хочешь поехать в Зарос?
Люси кивнула.
– Тогда ты должна это сделать. Я собираюсь поговорить с Кристин, попросить, чтобы они с Янисом отвезли тебя туда.
– А ты не поедешь?
– Нет. Габи и я… в общем, мы поссорились. Расскажу в другой раз.
– Спасибо тебе. Я бы очень хотела увидеть место, где погибла моя мать.
– Ладно, договорились. Хорошо. – Ли встала, серьезная и властная; Люси поднялась следом за ней, ее лицо светилось от облегчения. На противоположной стороне дороги длинная колонна женщин организованно усаживалась в автобус.
Был ранний вечер, и Люси наблюдала, как мимо нее проносились тени стремительных мотоциклов. Кристин поговорила с Янисом, и тот попросил своего друга. Ахиллеса Триадафилакиса отвезти ее в Зарос. И теперь девушка, хоть она и поклялась никогда в жизни этого не делать, ехала на мотоцикле без шлема. Он ритмично и равномерно вздрагивал, а вокруг, по обеим сторонам дороги, мелькали картины сельской жизни XIX века: одинокие фермы без электричества и красивые освещенные деревни, где мужчины отдыхали в кафе, а женщины и девочки сидели на крылечках, луща горох.
К тому времени, когда мотоцикл Ахиллеса взобрался на холм Зароса, солнце уже село. Разыскать Габи было легко, тут все ее знали. Ее дом находился в нескольких милях от старого монастыря, наверху одного из горных перевалов.
Тем не менее Люси казалось, что пролетели часы, прежде чем Ахиллес нашел дом, над дверью которого до сих пор висел турецкий номер, оставшийся еще с XIX века. Дом Габи стоял далеко от дороги – скромное побеленное здание с васильково-голубой дверью, эдакое воплощение сельской жизни, растиражированное на тысячах туристических открыток. Во дворе была привязана коза, пощипывавшая траву рядом с садиком миндальных деревьев. Услышав звук мотора мотоцикла, коза выжидательно подняла голову. Люси попрощалась с Ахиллесом и несколько секунд постояла у дороги, собираясь с духом. Звук мотоцикла уже пропал, послышалось треньканье овечьих колокольчиков. Неожиданно ее захлестнул поток пыльных шерстистых животных, бубенчики которых приятно звенели на разные лады. Люси робко взглянула на гигантское облако овечьего руна. Пастух кликнул собаку, бегавшую вокруг стада, и оно разбрелось, но потом снова слилось в единый поток, а звяканье колокольчиков только усилило чувство одиночества. На мгновение Люси заколебалась.
Затем Люси осторожной, слегка подпрыгивающей походкой наконец подошла к дому и постучалась в голубую дверь. Послышалось громыхание засова, и в двери открылось маленькое окошко. За решеткой показалась дородная рука, а затем перед Люси предстала коренастая круглолицая женщина, поправляющая прическу: во рту она держала множество заколок для волос.
– Neh?[26] – осведомилась она.
– Габи, – мягко произнесла Люси. – Меня зовут Люси. Я – дочь Китти.
– Дочь Китти? Ты Люси?
Девушка застенчиво кивнула головой. Дверь открылась, и круглолицая женщина прижала ее к себе, трепля за щеки и выкрикивая какие-то приветствия по-гречески.
– Ты пришла. Хорошо. Я ждала тебя, Люси.
Габи провела девушку в маленькую гостиную, в которой стояли жесткая викторианская софа и стулья. Люси поняла, что она попала туда, куда надо. На стене над небольшим камином висела фотография в рамке. На ней стояли рядом Китти и какой-то молодой человек. Люси в изумлении разглядывала свою улыбающуюся мать и самоуверенного юношу со свирепыми черными глазами. Она поняла, что это Константин Скеди, и ее поразило, с какой нежностью он смотрел на Китти. Это напомнило Люси о собственных чувствах. Интересно, может быть, она чувствовала себя защитницей своей миниатюрной матери из-за собственного высокого роста? Или в Китти было что-то детское, что-то пробуждавшее в близких ей людях желание оберегать ее?
– Тебе нравится мой мальчик? Poli oraio?[27]
Люси кивнула с серьезным видом. За последние несколько дней она нахваталась достаточно греческих слов, чтобы понять смысл.
– Да, он очень красивый, Габи.
Девушка села и взяла кувшин воды, оставленный Габи на столике рядом с вазой, полной полевых цветов, и большим bleh mati, талисманом в форме стеклянного глаза, приносящим удачу, который активно продавали туристам в Афинах. Габи вручила его гостье в первую же ночь, объяснив на ломаном английском – иностранном английском, как она в шутку выразилась, – что критские матери иногда прикалывали значок в виде голубого глаза на одежду своих детей, чтобы защитить их.
Люси наполнила стакан водой и залпом выпила ее. Перед пробуждением девушке снился прекрасный сон. Она стояла на пристани vaporetto в Венеции, смотря как с пыхтением отчаливает катер, увозящий в аэропорт ее мать и Ли. Маленькие, почти кукольные фигурки двух женщин стояли на корме судна, приземистые и круглые, как уиллендорфские Венеры. Их улыбающиеся лица были частично скрыты под гигантскими шляпами XVIII века, украшенными розами и миниатюрными парусниками, ярко раскрашенные флаги которых развевались на мачтах. Обе женщины махали руками и звали Люси, их лица светились от счастья, и она чувствовала, как ее гнев на мать тихо исчезает.
Китти была счастлива перед смертью, подумала Люси, скатившись с кровати и начав одеваться. А жизнь ее матери с Ли была хорошей, можно даже сказать, храброй и вдохновляющей.
После посещения пещеры Скотеино прошло два дня, и Люси, не переставая, думала о своем отказе признать храбрость матери. Неужели она была столь не уверена в себе, что не могла признать силу и успех Китти? Или причины тут менее очевидные? Может, все дело в том, что мать в ней больше не нуждалась? Да, возможно. Все свое детство Люси верила, что именно ее сила поддерживала Китти, когда их покинул отец. Определенно, она помогала своей матери и знала это. Но поддержка слабого – всего лишь детская мечта. Неужели кто-то, настолько целеустремленный и талантливый, как Китти, не мог справиться со всем сам?
Люси задержалась у окна посмотреть на горы. Стояло еще одно прекрасное критское утро. Она повернулась к ящику, где сложила все свои путеводители вместе с копией дневника Желанной Адамс и турецким манускриптом. Взяла дневник и открыла его на последних записях.
«30 июля 1797 года
Дорогая моя!
Я пишу эти строки, потому что иногда легче понять слова на бумаге, в разговоре можно что-то истолковать превратно. Я не хотел оставлять тебя прошлой ночью и идти с другими мужчинами на вечер к нашему хозяину, Фотису Стаматапулосу. Как ты знаешь, он устраивал маскарад для джентльменов, и я не мог взять тебя с собой. Доменико считает. Фотиса одним из самых могущественных людей в Греции и говорит, что лучше его не обижать. (Вечно эти его политесы – Доменико так старается угодить всем влиятельным персонам.) Однако я поднимал бокалы за здоровье Фотиса, пребывая в мрачном настроении, думая о тебе, о том, что ты чувствуешь себя покинутой.
Желанная, я не понимаю варварских привычек этих богатых греческих купцов, шикарно разодетых и ведущих бесконечные беседы. Это так не по-венециански. Представь мою радость, когда я наконец вернулся в нашу комнату и нашел твою записку, гласящую, что у тебя есть для меня сюрприз. Я медленно снял с себя всю одежду и встал перед длинным зеркалом, которое, как мне рассказывали, было даровано морским капитаном нашему хозяину вместо уплаты долга. Зачем дурачить себя, Джакомо, сказал я себе, разглядывая отражающееся в зеркале безотрадное зрелище – уже далеко не белые зубы, сгорбленные плечи, обвисшие ягодицы и подернутые морозом волосы над признаком мужественности.
Я стоял, созерцая это старое создание в зеркале, а тем временем ты пробралась в комнату. Как же ты была прекрасна, дорогая, одетая как Эме на портрете в моих часах. Ты не могла поразить меня больше, и я был растроган до крайности. А затем – с какой серьезностью ты выслушивала мои тирады о моей старости и обреченности нашего союза.
– Джакомо, моя любовь сделает тебя молодым, – ответила ты, к месту процитировав слова Эме из ее письма. – Что есть любовь, как не сила, побеждающая смерть? – прошептала ты. – Наше счастье остановит тиканье часов.
– Эме, – простонал я, подыгрывая тебе, – не скажешь ли ты Желанной, что я люблю ее, и только ее.
Ты, должно быть, поняла мои душевные страдания и остановилась, начав рыдать. Ты говорила, что наша любовь неправильна и что ты должна доставить меня к Эме, к матери моего ребенка.