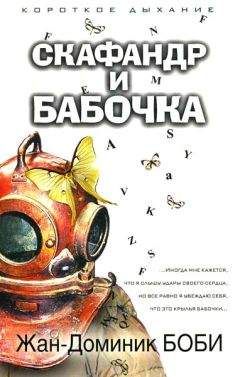Он покачал головой:
– Делай то, что должен, и возвращайся обратно. Я буду ждать тебя здесь. И мы вместе пойдем на реку.
Он наклонился, и я увидел футляры с его коллекцией бабочек, составленные один на другой, все сломанные и раздавленные людьми Фудзихары. Он уже вытряхнул разбитые стеклянные крышки и теперь зачерпнул пригоршню засушенных крыльев.
– Пора выпустить их на волю.
Он помедлил, глядя на макушки деревьев, чтобы оценить направление ветра. Дождавшись нужного момента, отец взмахнул рукой, и ветер подхватил невесомых бабочек, унося их в потоке на небо, где ранние лучи солнца вернули им цвет и жизнь, и они словно вновь замахали хрупкими крыльями в поисках неуловимого аромата цветов.
Я тоже наклонился, мы оба взяли еще по пригоршне, и еще по одной, и еще, пока они не кончились, и стали смотреть, как ветер тянет ленту из крыльев все дальше и дальше в море, пока она не исчезла из виду. Я про себя прочитал молитву, чтобы бабочки летели вечно.
– Осталась еще одна.
На отцовской ладони лежала Трогоноптера раджи Брука, бабочка, за которой он охотился перед тем, как заболела мать. Ее огромные черные крылья были изрезаны осколками битого стекла, но она казалась по-прежнему элегантной и полной сил, готовая снова взмыть в воздух.
Он повернул мою руку и положил бабочку мне на ладонь.
– Делай с ней что хочешь.
Я погладил ее крылья, все еще гладкие и шелковистые. По взгляду отца я понял, что нужно сделать. И я выпустил ее в невидимое воздушное течение, где она потянулась, расправляя залежавшиеся без дела крылья, с почти осязаемым томящимся наслаждением. Когда мы наблюдали за ее воскрешенным полетом, я почувствовал на плече руку отца. Она поднималась выше и выше, пока не затерялась в сиянии нового дня.
* * *
Я заранее подкупил начальника крематория, чтобы тетю Мэй кремировали отдельно, а не вместе с телами других заключенных, регулярно убиваемых японцами. Меня приводило в ярость то, что я не мог сделать того же для Изабель; ее тело исчезло.
Войдя в кабинет Эндо-сана, я сказал ему, что обязан сообщить деду о смерти тети Мэй и передать ему ее прах, чтобы над ней выполнили положенные обряды.
– Понимаю. Еще раз скажу, что мне очень жаль, что тебе выпали такие испытания. Эта ноша невыносима.
Из сада в кабинет заглянул утренний свет, осветив висевший позади Эндо-сана флаг его страны. Я вздрогнул, потому что он стоял прямо перед красным кругом в центре флага, и мне показалось, что из него сочится кровь, собираясь в лужицу на белом полотнище.
Он опустил руки по бокам и медленно поклонился. Поколебавшись, я вернул ему поклон. Когда он выпрямился, солнце зацепилось за набежавшие на его глаза слезы, и мы откуда-то знали, что когда встретимся снова, все будет иначе. Былые времена исчезнут навеки.
– Желаю тебе удачи в пути. Закончи то, что решил осуществить.
Самым твердым голосом, на какой я был способен, я сказал:
– Пожалуйста, позаботьтесь о моем отце.
– Позабочусь.
Мы оба на секунду замерли, не в силах пошевелиться. Я знал, чего жду, хотя мне и было стыдно в этом признаться. Если бы в тот миг он попросил меня остаться, я бы повиновался. Он открыл было рот, но решил промолчать и ничего не сказал. Я покачал головой, сокрушаясь собственной слабости, и повернулся к двери.
– Подожди. – Эндо-сан подошел к шкафу с выступавшей полкой. – Чуть не забыл.
Он поднял Кумо, мой меч, в традиционной манере: меч всей длиной парил в воздухе, и только конец острия и рукоять лежали на раскрытых ладонях.
– Я посылал его отполировать и смазать. Вообще-то, эти вещи полагается делать хозяину, то есть тебе, но… считай это моим прощальным подарком.
Мне ничего не оставалось, как принять меч.
– Спасибо.
– Возьми его с собой. Он может пригодиться. Я исправил твои проездные документы, чтобы у тебя было право его носить. Словно древним японским воинам, – медленно произнес он; ему было трудно смириться с мыслью, что меч может мне пригодиться, ведь он жил и учил меня путям гармонии.
– Я буду его беречь.
– «Мой дух в борьбе несокрушим, Незримый меч всегда со мной…» – прошептал он.
Мне никогда не удавалось ничего от него скрыть. Он знал, что обманул мои ожидания и что я выбрал собственный путь, освободившись от моральных правил, завещанных ему его сэнсэем и переданных мне.
Я поднял меч, салютуя на прощание, кивнул и вышел.
Мы с Митико сидели на скамье, установленной вдоль улицы Гурни-драйв, которая когда-то называлась Северной Береговой дорогой, повернувшись лицом в сторону пролива, и занимались тем же, чем и большинство окружающих: «манкан-анджин» – «глотали бриз»[93]. Променад пользовался популярностью. Юные влюбленные парочки совершали вечерний моцион. Лоточники выстроились вдоль дороги, торгуя индийским роджаком, жареной лапшой, рисом и соком из сахарного тростника. Почти каждый прохожий что-нибудь ел или держал в руках пакет с едой.
Мы долго сидели в молчании; мы уже достаточно хорошо узнали друг друга, чтобы нуждаться в словах.
Потом Митико сказала:
– Так вы не используете фамилию вашего деда, которую он соединил с вашей в клановом храме? Ни имя Арминий, которое вам дала мать?
– Нет, я их никогда не использовал. Мне казалось, что это было бы неправильно. Они предназначались для человека, которого я не знал, – ответил я – и споткнулся, потому что мне в голову пришла новая мысль. – Нет, потому что оба эти имени, каждое по-своему, должны были обозначить мое будущее, и в том будущем я не имел бы права голоса.
– Но ваша мать хотела, чтобы вы прожили жизнь в соответствии с собственной волей.
– И уже самим этим желанием она навязывала мне представление о том, как я должен прожить эту жизнь.
Когда война закончилась, я принял обдуманное решение избавиться от этих двух имен, словно сам этот жест мог обеспечить мне новую личность, даровать мне свободу как от мечты матери, так и от жизни, которая, как был уверен мой дед, была мне предначертана. Все это я и объяснил Митико.
– Теперь вы прожили без них почти всю жизнь. Думаете, что-то в ней изменилось?
– Не знаю.
– Нет, знаете. – Она указала на мое сердце. – Здесь у вас пустота, я права? Словно чего-то не хватает.
Я поерзал на скамье, смущенный данной оценкой. На нас никто не обращал внимания: мы были просто двумя стариками, сидящими на скамейке и мечтающими о молодости, провожая и встречая отпущенные нам недолгие дни.
– Это то самое место, где сидели мы с Эндо-саном, когда я решил спасти Кона.
– Как вы смогли остаться жить здесь, ведь на острове столько всего напоминает о войне?
– Куда еще мне было деваться? По крайней мере, здесь воспоминания не дают мне скучать. А когда становится невмоготу, я всегда могу уехать и вернуться обратно, когда полегчает. Лучше так, чем остаться вообще без дома, разве нет?
– Да, это так, – ответила она и замолкла.
– Простите меня. Это было жестоко с моей стороны.
– Я совсем не помню свой дом. Иногда мне кажется, что война испепелила не только его, но и все мои воспоминания. Все обратилось в прах.
Начинался прилив, и на мутной плоской поверхности замелькали белые кудряшки от набегающих друг на друга маленьких волн, подбиравшихся к берегу. Линия прибоя отражалась на гладкой влажной поверхности пляжа. Крики индийских скворцов и ворон, обосновавшихся на деревьях, соревновались с криками лоточников. Митико пила сок из большого молодого кокоса, тяжесть которого давила ей на колени. «Словно отрубленная голова», – подумал я и тут же отогнал эту мысль. Она слабела с каждым днем, и меня это беспокоило.
Она осторожно погладила мне руку. Мне нравилось ее теплое прикосновение. Ветер играл у нее в волосах, и она рукой отвела их от лица.
Я развернулся в другую сторону и указал на ряд бунгало, выходящих фасадами на дорогу.
– Этот дом когда-то принадлежал семье Се. – Я направил ее взгляд на обветшалый двухэтажный особняк, обнесенный колючей проволокой. – Они владели самой большой бисквитной фабрикой на Пенанге. А вон то здание стоит здесь уже сто десять лет. Через неделю его снесут и построят на его месте двадцатиэтажный жилой дом, – в моем голосе сквозила горечь. – И тот тоже. Там жил друг отца. У его семьи был банк.
Улица была застроена великолепными домами, возведенными в двадцатые годы двадцатого века. Многие уже снесли, но на карте своей памяти я видел их каждый день нетронутыми, во всем великолепии, гордо выстроившимися в ряд. И я помнил людей, которые в них жили, ходили из комнаты в комнату, с этажа на этаж, помнил скандалы и трагедии, случавшиеся в их жизнях.
Все ушло. Даже я не мог скупить все эти здания. Теперь они превратились в бары, кофейни, закусочные, рестораны морепродуктов с заоблачными ценами и торговые центры.
– Вы очень любите этот остров.
– Когда-то любил. Сейчас я чувствую, что потерял с ним связь. Это уже другой мир. Мы должны уступить место молодым. Может быть, поэтому я трачу столько денег и времени на скупку и реставрацию старых домов. Мне хочется оттянуть неизбежное.