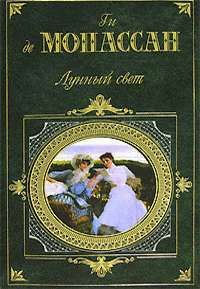Ги де Мопассан(1850 – 1893)
Жак Бурдильер в течение долгого времени клялся, что никогда не женится, но вдруг переменил свои воззрения. Это случилось внезапно, летом, на морских купаниях.
Как-то утром, когда он, растянувшись на песке, разглядывал выходивших из воды женщин, чья-то маленькая ножка поразила его своей грациозностью и красотой. Переведя взор выше, он пленился всем обликом этой особы. Впрочем, он увидел только щиколотки и голову, выступавшие из тщательно запахнутого белого фланелевого халата. Жак Бурдильер слыл прожигателем жизни и сластолюбцем. Сначала поэтому его пленил только вид этой изящной фигурки, но затем он был совершенно покорен прелестным характером молодой девушки, простым, милым и нежным, как ее щеки и губы.
Он был представлен семье и понравился. Вскоре он влюбился до безумия. Когда он издали замечал Берту Ланни на желтом песке длинного пляжа, он весь вздрагивал. Возле нее он немел и не в состоянии был не только говорить, но и думать; в сердце его что-то кипело, в ушах шумело, а душа наполнялась смятением. Была ли это любовь?
Он не знал, он ничего не понимал, но, во всяком случае, твердо решил сделать эту девочку своей женой.
Родители долго не решались дать согласие. Их удерживала дурная репутация молодого человека. Говорили, что у него есть любовница, давнишняя любовница, старая и прочная связь, одна из тех цепей, которые даже после разрыва все еще продолжают крепко держать.
Кроме того, он влюблялся на более или менее продолжительное время во всех женщин, находившихся от него на расстоянии поцелуя.
Но теперь он сразу остепенился и даже отказался увидеться еще раз с тою, с которой так долго прожил. Один из его друзей взялся уладить вопрос о содержании, обеспечивающем эту женщину на будущее. Жак платил, но не хотел ничего слышать о ней, стараясь забыть даже ее имя. Она писала ему, но он не распечатывал писем. Каждую неделю он узнавал неуклюжий почерк покинутой, и каждую неделю его охватывал против нее все больший гнев. Он разрывал конверт вместе с письмом, не вскрывая, не прочтя ни строчки, ни единой строчки, наперед зная все упреки и жалобы, которые содержались в нем.
Так как его постоянству родители все-таки не доверяли, то продолжили испытание на всю зиму, и только весною его предложение было принято.
Свадьба состоялась в Париже, в первых числах мая.
Было решено, что молодые не поедут в традиционное свадебное путешествие. После домашнего бала, с танцами для молоденьких кузин, который кончится не позже одиннадцати часов, чтобы не удлинять и без того утомительного дня церемонии, молодые супруги проведут первую ночь в доме родителей, а наутро уедут одни на купания, в то дорогое их сердцу место, где они познакомились и полюбили друг друга.
Наступила ночь. Танцевали в большой гостиной. Молодые уединились в маленький японский будуар, обтянутый ярким шелком и еле освещенный в этот вечер матовым светом спускавшегося с потолка цветного фонаря, похожего на огромное яйцо. В открытое окно вливался по временам свежий ветерок, нежно ласкавший лицо; вечер был теплый, тихий, напоенный ароматами весны.
Оба молчали, держа друг друга за руки и по временам крепко сжимая их. Она глядела затуманенным взором, слегка ошеломленная огромной переменой в своей жизни, улыбающаяся и готовая расплакаться от волнения, лишиться чувств от радости; ей казалось, что весь мир должен измениться из-за того события, которое с ней произошло; она была полна какой-то безотчетной тревоги и чувствовала себя – телом и душою – во власти некоей непонятной, но сладостной усталости.
Он пристально смотрел на нее, сосредоточенно улыбаясь. Он хотел говорить, но не находил слов и вкладывал всю свою страсть в рукопожатие. Время от времени он шептал: «Берта», и всякий раз она поднимала на него глаза нежным и кротким движением век; мгновение они смотрели друг на друга, потом глаза ее опускались, зачарованные его взором.
Они не находили ни одной мысли, которой могли бы обменяться. Их оставили вдвоем, и лишь изредка танцующая пара мимоходом бросала в их сторону беглый взгляд, как скромная и дружественная свидетельница их тайны.
Сбоку отворилась дверь, и вошел слуга, держа на подносе принесенное посыльным спешное письмо. Жак, вздрогнув, схватил его и почувствовал вдруг смутный страх, суеверный страх перед внезапным несчастьем.
Он долго смотрел на незнакомый почерк на конверте, не смея вскрыть его, охваченный безумным желанием не читать письма, не знать, что в нем, спрятать в карман и сказать себе: «До завтра… Завтра я буду далеко, и мне все уже будет безразлично». Но в углу конверта были отчетливо написаны два слова: «Очень важное»; они пугали и притягивали его.
– Вы позволите, мой друг? – спросил он и, вскрыв конверт, стал читать.
Он читал письмо, страшно побледнев, и, пробежав его одним взглядом, стал потом медленно перечитывать, точно по складам.
Когда он поднял голову, на нем лица не было.
– Дорогая малютка, – пробормотал он, – с моим другом… с моим лучшим другом случилось большое, очень большое несчастье. Я ему нужен сейчас же… сию же минуту… дело идет о жизни и смерти. Позвольте мне удалиться на двадцать минут. Я сейчас же вернусь.
Не чувствуя еще себя его женой, она не решилась расспрашивать его и требовать объяснений. Дрожащая и испуганная, она прошептала:
– Идите, мой друг.
И он исчез. Она осталась одна и сидела, прислушиваясь к танцам в соседней комнате.
Он схватил первую попавшуюся под руку шляпу, чье-то пальто и бегом спустился по лестнице. Перед тем как выйти на улицу, он остановился под газовым рожком в подъезде и перечел письмо.
Вот его содержание:
«Сударь. Девица Раве, по-видимому ваша бывшая любовница, разрешилась от бремени ребенком; она уверяет, что ребенок от вас. Родильница умирает и молит вас прийти к ней. Я взял на себя смелость написать вам и спросить, не согласитесь ли вы на последнее свидание с этой женщиной, видимо, очень несчастной и достойной сожаления.
Готовый к услугам
доктор Бочар».Когда Жак вбежал в комнату умирающей, она была в агонии. Он сразу ее не узнал. Доктор и две сиделки ухаживали за ней, на полу стояли ведра со льдом и валялись полотенца, пропитанные кровью.
Пол был весь залит водой. На столе горели две свечи; позади кровати в плетеной колыбели кричал ребенок, и при каждом его крике мать мучительно пыталась приподняться, дрожа под ледяными компрессами.
Она истекала кровью, раненная насмерть, убитая этими родами. Жизнь уходила, и, несмотря на лед, несмотря на все заботы, упорное кровотечение продолжалось, приближая ее последний час.
Она узнала Жака, хотела поднять руки, но не могла, до того они обессилели. По смертельно бледным щекам ее покатились слезы.
Жак бросился на колени перед постелью, схватил безжизненно свисавшую руку и стал безумно целовать ее. Потом он приблизился вплотную к исхудалому лицу, дрогнувшему от его прикосновения. Одна из сиделок, стоя со свечой в руке, светила им, а доктор, отойдя от постели, смотрел из глубины комнаты.
Уже далеким и прерывающимся голосом она сказала:
– Я умираю, мой дорогой, обещай остаться при мне до конца. О, не покидай меня, не покидай меня в последний мой час!
Рыдая, он целовал ее лоб, волосы и шептал:
– Успокойся, я останусь.
Она несколько минут молчала, собираясь с силами, – так она была слаба и взволнованна.
– Это твой ребенок, – продолжала она. – Клянусь тебе богом, клянусь своей душой, клянусь тебе перед смертью. Я никого не любила, кроме тебя… Обещай мне, что ты не покинешь его.
Он обнял это бедное, искалеченное, бескровное тело. Вне себя от горя, мучимый укорами совести, он лепетал:
– Клянусь, что воспитаю его и буду любить. Я никогда не расстанусь с ним.
Тогда она попыталась поцеловать Жака. Но, не в силах поднять отяжелевшую голову, она протянула ему бледные губы, прося поцелуя. Он нагнулся, чтобы принять эту жалкую, молящую ласку.
Немного успокоившись, она прошептала чуть слышно:
– Принеси малютку, я хочу видеть, любишь ли ты его.
И он отправился за ребенком.
Он положил его на кровать между нею и собой, и крошечное существо перестало плакать. Она прошептала:
– Не двигайся.
И он не шевелился. Он стоял так, держа в горячей руке ее руку, вздрагивавшую в агонии, как только что держал другую, по которой пробегала дрожь любви. Время от времени он украдкой поглядывал на часы и видел, что стрелка миновала двенадцать, потом час, потом два.
Доктор ушел; обе сиделки, побродив некоторое время по комнате, задремали в креслах. Ребенок спал, и мать, закрыв глаза, казалось, также уснула.
Когда бледный рассвет стал проникать сквозь опущенные занавески, она внезапно протянула руки таким быстрым и резким движением, что чуть не уронила на пол ребенка. Что-то заклокотало у нее в горле, и она вытянулась на спине неподвижная, мертвая.