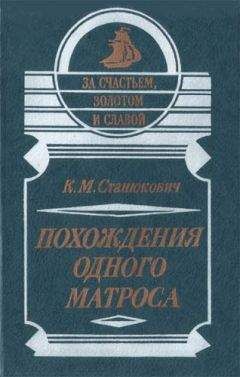Константин Михайлович Станюкович
ФОРМЕННАЯ БАБА
– Это ты, Егорка, про вдову Аришку? – властно спросил, подходя к двум матросам, притулившимся у борта на юте, молодой, красивый, черноволосый матрос Александр Дымнов, казавшийся еще красивее при свете полного месяца, заливавшего своим серебристым светом и океан и палубу «Голубчика», который под всеми парусами спускался на юг, направляясь к Индийскому океану.
– Про нее! – отвечал, несколько робея, белобрысый матросик Трофимов, которого Дымнов называл Егоркой.
– Не видал ты, значит, настоящих баб, ежели обожаешь Аришку. Какая это баба? Это, прямо говорить, кура, а не баба… Ке-ке-ке… Только и кудахчет… да знай норовит с матроса лишний грош за лук содрать. Торговка, а не баба… И Иудинская… С «крупой» тоже зенками вертит… Ей все равно, что смола, что крупа! [1] А ежели ты баба флотская, так и будь флотской.
– Это ты, Дымнов, вовсе здря виноватишь Арину. Она баба ласковая! – заступился Егорка, несколько обиженный презрительным отзывом о молодой торговке, пленившей, в числе многих, и его.
Вдобавок две ситцевые рубахи, подаренные ею Егорке накануне ухода «Голубчика» в кругосветное плавание, в значительной мере подогревали память о доброте и ласке Арины, напоминая вместе с тем добросовестному и благодарному матросу и об его клятвенном обещании исполнить ее просьбу – привезти ей из «дальней» шелковый платок с «жар-птицей», какой привозил один матросик ее конкурентке по базару, «белобрысой Дуньке», и супирчик с Цайлон-острова.
– Мне что твою Аришку виноватить? Я ею не занимался… Начхать мне на таких баб! – высокомерно произнес красавец матрос. – Небось, и тебе две рубахи подарила, а заместо их: «Привези, мол, Егорка, на память гостинцев!» Не тебя одного, простоту, она этими рубахами облещала… Никакой настоящей приверженности в ей нет… Что Кузьма, что Архип… Только гостинцы бы ей возили… Корыстная душа… А ты и раскис: «Аришка да Аришка!..»
– Ты, небось, знал лучше Аришки!..
– Я-то? – хвастливо переспросил Дымнов.
– Ты-то.
– Перед той бабой, какую я знал, твоя Аришка, прямо сказать, ничего не стоит… Да такой бабы тебе никогда и не узнать…
– Это почему?
– А потому, что моя Нюшка форменная баба, и не по твоей она трусости…
– В каких это смыслах понять?
– А в таких, что из-за бабы ты и пятидесяти линьков побоишься принять, а не то, что в неделю по две сотни!
– Я и так до смерти боюсь линьков, а то еще из-за бабы!.. Вовсе и не стоит баба, чтобы из-за нее да пороли… И ты чудно что-то обсказываешь, Дымнов! – испуганно и недоверчиво проговорил Егорка, слишком тихий, спокойный и робкий человек, чтобы допустить даже в помыслах такую несообразную компликацию [2].
– То-то я и говорю, что тебе этого не понять! – не без снисходительного презрения кинул красивый брюнет.
– Довольно трудно понять… Небось, и ты сам этого не поймешь…
– По-ни-мал!.. Очень даже хорошо понимал… Из-за самой этой Нюшки меня стращали скрозь строй гонять, а насчет порки нечего и говорить… Всыпывали довольно даже часто… Всего бывало!
– И ты не бросил этой самой бабы?
– Глупый ты, Егорка!.. Бросил?.. Я не только не бросил, а чем больше пороли меня из-за Нюшки, тем она мне любее становилась… Можешь ты это себе в понятие взять?.. То-то не можешь… Потому в тебе никакой отчаянности карахтера нет, и никогда ты настояще не был привержен к бабе…
И Дымнов хотел было отойти, находя, что и то, что он сказал, было достаточно, чтобы произвести на товарищей импонирующее впечатление, но Егорка, втайне во всем завидовавший Дымнову, хотя и очень расположенный к нему, проговорил:
– А ты, Дымнов, объясни про форменную бабу-то… Расскажи, как это все вышло у вас и по какой-такой причине тебя за нее пороли.
– Напрасно тебе это и объяснять. Все равно не поймешь…
– Может, и пойму… А ты расскажи.
– Я и сам знал тоже одну такую же занозистую бабенку! – начал было другой матросик, доселе не проронивший слова. – В горничных у нашего экипажного служила… Ну и заноза, я вам скажу, братцы!..
– Та-ку-ю!? – перебил Дымнов, взглядывая не без презрительного изумления на человека, имеющего дерзость сравнивать кого-нибудь с «форменной бабой». – Такую! Дурак ты, Антонов, дурак и есть!.. Такую!?.
– Да ты за что лаешься-то? – спросил поклонник занозистой горничной.
– А по той причине, что твоей этой самой занозе так же далеко до такой, как отсюда до берега! – ответил Дымнов и взмахнул рукой на океан, кативший свои большие волны, обозначавшиеся во мраке ночи седыми верхушками.
– Ты нешто ее знаешь?
– И знать не желаю.
– Так как же ты можешь об ей полагать?
– То-то могу.
– Это еще почему?
– А потому, что такой, как Нюшка, нет и быть не может другой. Понял?
В убежденном и властном тоне Дымнова звучала такая восторженность, что оба матроса невольно притихли, словно бы внезапно понявшие действительное превосходство той женщины, о которой так горячо говорит матрос, несмотря на то, что из-за нее его пороли.
– Так расскажи нам про свою Нюшку! – снова попросил Егорка.
– Расскажи, Дымнов, уважь… Должно быть, очень облестительная баба. И прозвище у ней чудное: Нюшка!
Вероятно, не столько эти просьбы, сколько потребность поговорить о женщине, вызывавшей сильное чувство, с молодыми ребятами, которые не осмелятся отнестись с насмешкой к сердечным признаниям, заставила матроса согласиться.
– Уж так и быть, расскажу вам про Нюшку, чтобы вы могли хоть слышать, какие на свете бывают форменные бабы! – проговорил Дымнов уже не прежним резким тоном, а мягким и значительным, словно бы заранее стараясь расположить слушателей к героине своего романа.
И, присевши к борту, Дымнов покрутил усы и начал:
– Это я прозвал ее, братцы, Нюшкой, а звали ее все Анной Гавриловной, потому как она во всем своем парате, при серьгах, с бруслеткой и в кольцах жила вроде быдто экономки у капитана первого ранга Ухватова. Он моим экипажным был и командовал кораблем «Нетронью» [3]. Небось, слышали?
– Его еще бабьим боровом звали! – заметил Егорка.
– Он самый и есть. Лысый, чижелый, брюхастый, прямо сказать, боров, а туда же: на любовь льстился. Не понимал, что это ему не к рылу, и по своей дурости полагал, что можно через деньги настоящую приверженность получить. Очень обожал экономку. Ничего для нее не жалел. Рядил, как паву.
– А из каких она была? – спросил Егорка.
– Писаря Авакумова жена. Тот на деньги польстился: сказывали, две тыщи за нее взял и от правов отказался. Ну, и Нюшка из антиреса в экономки пошла… Думала сперва, что очень это лестно вроде барыни быть да своего лысого черта вроде как турецкого султана ублажать… И жила она у его таким манером год, ровно заключенная. Никуда Ухватов ее не пускал… Страсть ревнивый был… И обожал ее больше да больше… Все надеялся, что Нюшка не из-за денег с им будет хороводиться… Но только напрасно… Без экономки остался!
Матрос проговорил эту фразу с злорадным торжеством. На его красивом лице сияла победоносная улыбка.
– Отбил, значит, у экипажного? – сочувственно и в то же время изумленно спросил Егорка, проникаясь необыкновенным уважением к Дымнову.
Он хорошо знал, что Дымнов был мастер облещивать баб, и что кронштадтские торговки, горничные, кухарки и матросские жены бывали неравнодушны к красавцу-матросу. И рады были, если он обращал на них внимание. Но отбить полюбовницу от самого экипажного – это представлялось Егорке чем-то особенно блестящим и смелым. И чем менее способен был он сам на такую «отчаянность», тем сильнее восхищался, втайне завидуя ей.
– А ты думал, струсил? Небось, из-за Нюшки я бы и черта не испугался, а не то что экипажного командира. Сделай, братец, одолжение! А увидал я ее поздней осенью, как теперь помню, в октябре месяце. Назначили меня ординарцем к Ухватову на тринадцатое число. Ребята, кои раньше ординарцами ходили, предупреждали: – «Не пяль, мол, глаз на экономку, ежели увидишь, и не отвечай ей, ежели что спросит, а то экипажный, коли заметит или узнает через старую куфарку, – это вроде ведьмы была приставлена, – изобьет тебя в лучшем виде за то и велит отшлифовать – придерется за что-нибудь! Были, мол, такие дела». – «Ладно, – говорю. – Что мне пялить глаза на ухватовскую полюбовницу. Баб, что ли, мало про нашего брата!» Явился в восемь утра к ему на квартиру – он в офицерских хлигелях жил – и дежурю в передней. Этак в десятом часу вышел из кабинета. Евойный вестовой подал ему пальто – в экипаж идти. Посмотрел это Ухватов на меня пронзительно так и сказал: – «С места, такой-сякой, никуда не отлучаться, а не то… запорю. Понял?» – «Понял, вашескобродие». – «Хорошо понял?» – «Точно так, вашескобродие!» И опять смотрит на меня, разглядывает, точно никогда не видал. И, вижу, глаза злые-презлые. Ушел и, уходя, опять на меня обернулся и опять сердито посмотрел. Понял, видно, боров, что я не лыком шит, а матрос молодой. Опасался, значит, как бы экономка не обмолвилась со скуки словом с ординарцем. Хорошо. Сижу это я себе на рундуке в прихожей, и курить до смерти хочется, а курить боюсь – как бы запаху матросской цигарки не оказало. Тихо кругом. Вестовой комнаты убрал и ушел себе на кухню, а я томлюсь, можно сказать, из-за того, что покурить нельзя. Наконец не смог терпеть. Вышел на парадную лестницу и наскоро выкурил цигарку, и будто полегчало… Вернулся, сел на место, как скрипнули из комнаты двери, и вошла Нюшка. Вошла, братцы вы мои, и как взглянула, ровно бы меня ганшпугом [4] по голове съездили… Вовсе в расстройку пришел. Встал это я и на нее гляжу, а самого в краску бросило. И даже чудно показалось. Знал я довольно много баб и ни одну не боялся, а эта словно бы ошарашила.