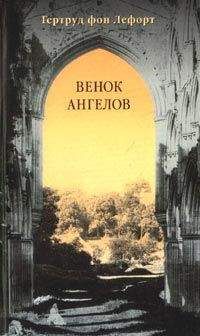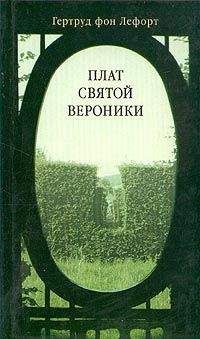Моим дорогим спутникаммво время путешествия в Эг-Морт,
Петеру и Клоду Шифферли, с любовью посвящается
Герцог Бово прибыл в Эг-Морт [1] в чрезвычайно дурном расположении духа: его высокая покровительница, всемогущая маркиза, на сей раз не захотела даже слушать об очередной отсрочке злополучного путешествия. И ему пришлось наконец отправиться в эту забытую Богом дыру, где он, терзаемый болотными комарами и удрученный впечатлениями от призрачного, почти зловещего ландшафта, провел бессонную ночь. Утром он, повинуясь долгу, посетил мессу и теперь в сопровождении своего капеллана собрался наведаться в печально известную Башню Постоянства [2], где содержались узники.
Как уже было сказано, настроение герцога оставляло желать лучшего, ибо зрелище человеческих страданий вызывало в нем естественное отвращение, и до сих пор ему удавалось благополучно избегать подобных впечатлений. Однако маркиза решила, что новая должность, должность губернатора этой местности, обязывает его к поездке и делает неизбежными связанные с нею неприятности.
– Слушайтесь меня, дорогой мой друг, пока я еще в состоянии давать вам советы, – увещевала она его. – Вы не пожалеете об этом.
Что могло означать это странное «еще»? Уж не опасается ли маркиза возможной утраты своей ласковой власти над сердцем короля? Герцог не мог себе этого представить, как не мог и понять, зачем ей, ярой защитнице Вольтера, вдруг понадобилось вмешиваться в дела духовенства. Впрочем, то, что она это делала, было серьезным знаком, и он последовал ее совету, поборов досаду.
День выдался тусклый, овеянный серебристо-серой тоской. Море, когда-то подобравшееся было к самым стенам города, постепенно отступило. Гавань обмелела: там, где некогда под пение псалмов на лодках покидало свои корабли войско крестоносцев Святого Людовика, теперь, куда ни взгляни, простиралась бледная болотистая равнина; тут и там поблескивали в этой заросшей травой и камышом пустыне оставленные соленой морской водой белые кристаллы, придававшие пейзажу что-то призрачно-мертвое. Может быть, море, словно боясь отстать от времени, тоже решило отречься от гордой старины? И покинуло эти места, как это сделали великие судьбы? Герцог не стал ломать себе голову над этими вопросами, он лениво слушал скучные рассуждения капеллана, который, по-светски понизив голос, обращал его внимание на то, что в Эг-Морте содержались под стражей еще альбигойцы [3] и тамплиеры [4], стало быть, нынешнее заточение здесь гугенотов [5] – не что иное, как следование воле Святого Людовика, ибо искоренение ереси есть законное продолжение крестовых походов.
Герцог с трудом подавил в себе желание резко возразить: он, как и все образованное общество Парижа, был убежденным вольнодумцем; он мечтал о царстве разума и свободы духа, о природе и прекрасных идеалах человечности. Для него понятие «ересь» было пустым звуком; вероятно, во времена великих гугенотских родов оно было средством добиться власти и влияния – так же как сегодня оно служит средством достижения власти и влияния для тех, кто выступает против гугенотов.
Тем временем они приблизились к башне. Как отвесная скала-великан, она глубоко вонзилась в тихое, бледно-серебристое небо, ужасающе высокая и глухая, без единого окна; казалось, она сознательно вырвалась из объятий уродливого пейзажа, чтобы далеко смотреть в открытое море. Может быть, эта башня и в самом деле, оправдав свое имя, осталась безучастной к произошедшим в стране переменам и капеллан прав, утверждая, что и сегодняшнее ее назначение отвечает недостижимым целям крестовых походов – ведь на самом верху башни, в мощехранилище, кажется, еще до сих пор хранятся мощи Святого Людовика.
Они прошли по гулкому мосту через окружавший башню ров с густой, неподвижной водой. Пахло водорослями и гнилой рыбой: башня эта, хоть и была, благодаря своей гордой высоте, чем-то сродни морю, фундамент ее, однако, глубоко коренился в болотистой земле этого проклятого места.
У схода с моста гостей встретил юный комендант тюремной башни, сменивший на этом посту своего умершего отца. Он подал герцогу список узников, состоявший из одних лишь женских имен.
– Все мужчины на галерах, – пояснил комендант. – К нам лишь иногда, очень редко, попадают узники, которые слишком слабы для этой работы.
Герцог пробежал глазами длинный список. Некоторые имена были помечены крестом, означавшим, что человек этот уже умер.
– К какому сроку заточения приговорены эти люди? – спросил герцог.
Комендант удивленно взглянул на него: разве герцогу неизвестно, что годы здесь не знают счета?
– Ваша светлость, мы не получали на этот счет никаких распоряжений, – ответил он. – Мы надеялись получить их от вас, – прибавил он почти робко, и на лице его, мягком и еще совсем детском, отчетливо проявилось участие, которое он, однако, не решился высказать вслух: выражать сочувствие узникам было опасно.
Герцог понял скрытый намек.
– Это будет зависеть от того, что увидит и услышит здесь мой капеллан. Ему поручено поговорить с узниками – сам я не хотел бы вступать с ними в какие бы то ни было разговоры. Прошу вас избавить меня от коленопреклоненных просителей, от рыданий и просьб о помиловании: забудьте на время о моем титуле.
Юный комендант молча поклонился. Он уже заметил, что на платье герцога нет никаких знаков герцогского достоинства.
Они стали подниматься по узенькой витой лестнице, нескончаемые ступеньки которой вызвали у герцога ощущение, будто он находится внутри выброшенной на берег огромной морской раковины; все сильнее сужающиеся завитки этой раковины, казалось, вот-вот раздавят его. В то же время ему хотелось, чтобы лестница не кончалась, – такой тягостной была для него мысль о том, что должно предстать его взору наверху. Но этот миг, которого он так боялся, уже наступил. Юный комендант открыл тяжелую дверь со множеством замков и запоров, и они вступили в большое круглое помещение без окон, освещаемое лишь несколькими узенькими прорезями в стене и вначале показавшееся им почти совершенно погруженным во мрак. Густой, невыразимо тяжелый и спертый воздух ударил им в ноздри. Герцог, привыкший к изысканным запахам, вначале едва не задохнулся. Через некоторое время, когда глаза его немного привыкли к темноте, он различил кучку жмущихся друг к другу женщин в старомодных, давно выцветших платьях; лица их тоже казались выцветшими и полинявшими, словно люди эти каким-то чудом пережили свою давно канувшую в Лету эпоху или, скорее, превратились в ее живых мертвецом, Герцог невольно вспомнил об отложениях моря – здесь, похоже, жгуче-соленые слезы произвели то же действие, что и отступившее море.
– Заключенные, – представил комендант и принялся называть пленниц по именам, указывая также их возраст; многим из них было более шестидесяти лет, но герцог дал бы им всем гораздо больше.
Между тем капеллан обратился к женщинам с вопросом, готовы ли они отречься от ереси и вернуться в лоно Церкви. Пленницы молчали. Было неясно, в состоянии ли они вообще понять смысл обращенных к ним слов. Капеллан повторил вопрос, невольно употребив на сей раз вместо выражения «лоно Церкви» слово «свобода»…
Ответом ему вначале опять было глубокое молчание. Но потом вдруг двое из этих несчастных призраков взялись за руки, словно желая подбодрить друг друга; бессмысленная, блаженно-хмельная, почти безумная улыбка оживила их скорбные лица. Рука в руке, устремились они к капеллану, но, прежде чем они успели произнести хотя бы слово, из глубины помещения раздался немощный, но очень ясный голос:
– Resistez! [6]
Женщины замерли на месте и разрыдались. Капеллан нахмурился: это было уже хорошо знакомое ему непокорство.
– Чей это голос? – спросил он сердито.
Комендант назвал имя: Мария Дюран.
– Она больна, – пояснил он извиняющимся тоном, – и сейчас, верно, просто бредит…
– И тем не менее она здесь, похоже, – душа сопротивления, – возразил капеллан.
В глазах юного коменданта росло беспокойство.
– Это сопротивление имеет и обратную сторону, господин аббат, – произнес он. – У Марии Дюран необыкновенно счастливая рука, настоящий дар утешать узников, особенно новеньких, – она умеет уберечь их от отчаяния. Боже, вы не представляете себе!.. – заговорил он вдруг срывающимся от волнения голосом. – Вы не представляете себе, как ужасны эти приступы отчаяния!.. Посудите… Посудите сами…
– Хорошо, ведите же нас к своей протеже, – перебил его капеллан. – Я должен исполнить свой долг.
Они подошли к нише, где царил еще более густой мрак и дышать было еще тяжелей. На ветхом соломенном тюфяке лежала явно очень больная старица. Если страдания, увиденные герцогом сегодня, могли иметь сравнительную степень, то несчастная женщина была ее воплощением: герцог потерял самообладание.