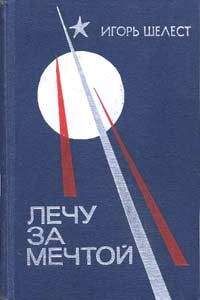Вольтер
Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман
Увы, всем в этом мире правит неумолимый рок! Как и следовало ожидать, я сужу о том по приключившейся со мной истории.
Милорд Честерфилд [1], который меня очень любил, давно обещал меня облагодетельствовать. А тут освободилась зависящая от него, прекрасная preferment [2]. Я спешу из своей провинциальной глуши в Лондон; представляюсь милорду; напоминаю ему его обещание [3]; он дружески пожимает мне руку и говорит, что я в самом деле очень дурно выгляжу. Я отвечаю, что всего больше меня мучает бедность. Он уверяет, что позаботится о моем излечении, и тут же дает письмо к г-ну Сидраку, возле Гилдхолла [4].
Я не сомневаюсь, что г-н Сидрак – лицо, которое устроит мое назначение на должность. Лечу к нему. Г-н Сидрак, хирург милорда, немедля берется за зонд, чтобы меня исследовать, и уверяет, что, если у меня камни, он их прекраснейшим образом вырежет.
Дело в том, что милорду послышалось, будто я мучаюсь мочевым пузырем, и он, с обычной своей щедростью, пожелал, чтобы меня резали за его собственный счет. Он был глух на оба уха, как и милорд его брат, но я не был о том еще осведомлен.
А за время, что я потратил, защищая свой мочевой пузырь от зонда г-на Сидрака, решившего во что бы то ни стало меня исследовать, один из пятидесяти двух претендентов на ту же бенефицию явился к милорду, попросил мой приход и его получил.
Я был влюблен в мисс Фидлер, с которой предполагал вступить в брак, лишь только стану приходским священником; мой соперник получил и мое место, и мою возлюбленную.
Милорд, узнав о моей беде и своей ошибке, обещал все исправить, но два дня спустя скончался.
Господин Сидрак яснее ясного растолковал мне, что мой добрейший покровитель по состоянию своих органов никоим образом не мог прожить и минутой дольше и доказал, что глухота его являлась единственно следствием исключительной сухости чувствительных струн и барабанной перепонки его ушей. Он даже предложил мне так основательно продубить мне оба уха винным спиртом, чтобы ни один пэр в королевстве не мог сравняться со мной по части глухоты.
Я понял, что г-н Сидрак человек весьма ученый. Он пробудил во мне вкус к естественным наукам. Кроме того, я увидел, что он человек также и сердобольный, который в случае нужды безвозмездно вырежет мне камни и окажет помощь при всяких неожиданностях, могущих приключиться у меня в окрестностях шейки мочевого пузыря.
Итак, желая утешиться после потери прихода и возлюбленной, я стал под его руководством изучать природу.
После многих наблюдений над природой, сделанных посредством собственных пяти чувств, очков и микроскопов, я однажды заметил г-ну Сидраку:
– Над нами смеются; никакой природы нет, все есть искусство. Лишь посредством изумительного искусства планеты стройным хороводом кружатся вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг собственной оси. Конечно, кто-то столь же ученый, как Лондонское королевское общество, устроил так, чтобы квадраты периодов обращения планет были всегда пропорциональны кубам их расстояний от Солнца; и надо быть колдуном, чтобы такое разгадать.
Приливы и отливы нашей Темзы, представляется мне, не что иное, как постоянное воздействие не менее великого и не менее труднопостижимого искусства.
Животные, растения, минералы – все представляется мне устроенным сообразно весу, мере, числу, движению. Все есть пружина, рычаг, блок, гидравлическая машина, химическая лаборатория, будь то трава или дуб, блоха или человек, песчинка или облака.
Несомненно существует лишь искусство, а природа одна химера.
– Вы правы, – отвечал мне г-н Сидрак, – но не вам принадлежит честь этого открытия; такая мысль была уже высказана одним мечтателем по ту сторону Ла-Манша [5]. Однако никто не обратил на это внимания.
– Но всего больше меня удивляет и всего больше мне по душе, что посредством этого непостижимого искусства две машины всегда производят третью; и я очень огорчен, что мне не довелось сделать подобную машину вместе с мисс Фидлер; но, видно, так уж было изначально предначертано, что мисс Фидлер прибегнет к другой машине, а не ко мне.
– То, что вы сейчас сказали, – заметил г-н Сидрак, – равным образом было уже сказано, но тем луч-пи: значит, можно предположить, что вы мыслите правильно. Да, весьма приятно, что два существа производят третье; но нельзя сказать этого о всех существах. Две целующиеся розы не производят третьей; два камня, два металла третьего не производят; а между тем и металл и камень – предметы, которые, при всем мастерстве своем, человек сделать не способен. Великое, вечно возобновляющееся чудо из чудес состоит в том, что юноша и девушка сообща делают ребенка, что соловей делает соловьенка своей соловьихе, а не малиновке. Следовало бы половину жизни подражать им, а вторую половину – благословлять того, кто изобрел такую методу. В воспроизведении рода множество любопытнейших загадок. Ньютон говорит, что природа всюду себе подобна: Natura est ubique eibi consona. Но это неверно применительно к любви; рыбы, рептилии, птицы любят по-другому, чем мы; тут бесконечное разнообразие. Меня восхищает изготовление чувствующих и действующих существ. Но и у растений есть свои достоинства. Я не перестаю удивляться, что брошенное в землю зерно производит множество новых зерен.
– Да, но пшеница должна умереть [6], чтобы вновь возродиться, как говорили нам в школе, – вставил я, все еще дурак дураком.
Г-н Сидрак рассмеялся вполне уважительно и меня пожурил.
– Так думали, когда вы ходили в школу, – сказал он. – Но любой землепашец знает теперь, что это вздор.
– Ах, господин Сидрак, примите мои извинения; ведь я был богословом, а от старых привычек сразу не избавляешься.
Вскоре после этих бесед бедного священника Гудмана и превосходного анатома Сидрака наш хирург встретил его в Сент-Джемском парке погруженного в размышления, задумчивого и смущенного, как математик, который ошибся в расчетах.
– Что с вами? – осведомился Сидрак. – Вас мучает пузырь или кишечник?
– Нет, – отвечал Гудман, – желчь. Только что мимо прокатил в отличной карете епископ Глостерский [7], болтливый и несносный педант; а я шел пешком, и это меня взбесило. Я подумал, пожелай я получить в этом королевстве епископство, десять тысяч шансов против одного, что мне его не получить, коль скоро в Англии нас десять тысяч священников. Со смертью глухого милорда Честерфилда я остался вовсе без покровительства. Допустим, что у этих десяти тысяч англиканских священников имеется по два покровителя, в таком случае уже двадцать тысяч шансов против одного, что я не получу епископства. Как об этом подумаешь, зло берет.
Я вспомнил, что мне некогда предлагали отправиться в Ост-Индию в качестве юнги; уверяли, что я составлю себе там состояние, но я не счел себя способным когда-либо сделаться адмиралом. И, перебрав все профессии, остался священником, раз я уж ни на что более не годен.
– -А вы бросьте священство, – сказал ему Сидрак, – сделайтесь философом. Это ремесло не требует и не приносит богатства. Какие у вас доходы?
– У меня рента в тридцать гиней всего-навсего, а после смерти старушки тетки будет пятьдесят.
– Полноте, мой дражайший Гудман, этого достаточно, чтобы жить свободным и размышлять. Тридцать гиней составляют шестьсот тридцать шиллингов: стало быть, около двух шиллингов в день. Филипс [8] рад был бы и одному. С таким обеспеченным доходом можно говорить все, что думаешь об Ост-Индской компании [9], парламенте, наших колониях, короле, о существе вообще, о человеке и боге, что весьма занятно. Пойдемте ко мне обедать, вот вы и сбережете деньги; мы будем беседовать, и ваша мыслительная способность получит удовольствие общаться с моей – посредством слова; а это удивительное явление, которое люди не умеют достаточно ценить.
БЕСЕДА ДОКТОРА ГУДМАНА И АНАТОМА СИДРАКА О ДУШЕ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ
Гудман. Но, дорогой Сидрак, почему вы всегда говорите моя мыслительная способность? Не проще ли сказать моя душа? Это короче, и я понял бы вас так же хорошо.
Сидрак. А я бы себя не понял. Я чувствую, я знаю, что бог наделил меня способностью мыслить и говорить; но я не чувствую и не знаю, наделил ли он меня неким существом, которое именуют душой.
Гудман. И впрямь, когда я сейчас об этом думаю, то вижу, что тоже ничего о душе не знаю, хотя долго брал на себя смелость полагать, будто мне это известно. Я заметил, что восточные народы назвали душу словом, обозначающим жизнь. По их примеру латиняне сперва понимали под anima живое животное. Греки говорили: дыхание есть душа. Дыхание – это дуновение. Латиняне переводили дуновение словом spiritvs: отсюда слово, соответствующее духу почти у всех современных наций. А коль скоро никто никогда не видел этого дуновения, этого духа, из него сделали некое существо, которое нельзя ни видеть, ни осязать. И стали говорить, что оно помещается у нас в теле, не занимая там места, что оно движет нашими органами, не касаясь их. Чего только не говорили? Все наши споры, как мне кажется, основывались на многозначности слов. Убежден, что мудрый Локк [10] хорошо понимал, в какой хаос такая многозначность всех языков ввергла человеческий разум. В единственной разумной книге по метафизике, из всех когда-либо написанных, он не уделил душе ни единой главы. И если случайно употребляет иной раз это слово, то оно означает у него не что иное, как наш рассудок.