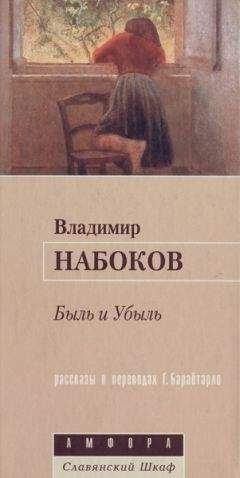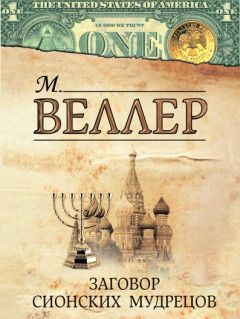Владимир Набоков
ЖАНРОВАЯ СЦЕНА, 1945 Г.
У меня есть один малопочтенный тезка, с тем же именем и той же фамильей, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где я жил в середине двадцатых годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я сам, покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр «Протоколов Сионских Мудрецов». Книжка эта (которой в былое время мечтательно зачитывался император) была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным мошенником по заказу тайной полиции; ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, «популярный и ценный труд» уже больше года. Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносило моего однофамильца.
Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым эмигрантом безусловно черносотенной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал упущенное традиционным способом. Он, видимо, много скитался; я тоже, — и на том наше сходство и кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня, не приходится ли мне братом некто женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то раз весной, в Ницце, в мою гостиницу зашла девушка с безстрастным лицом и длинными серьгами, сказала, что хочет меня повидать, а увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось: «Ne viens pas Alphonse de retour soupçonne sois prudent je t'adore angoissee»[1], и, признаюсь, я испытал род мрачного удовольствия, вообразив как мой повеса-двойник, неотвратимо врывается с букетом цветов в апартамент и застает там Альфонса с женой. Несколько лет спустя я читал лекции в Цюрихе, где меня неожиданно арестовали по обвинению в том, что я, дескать, расколотил три зеркала в ресторане — прямо триптих какой-то, на котором изображен мой тезка сначала пьяным (зеркало первое), потом очень пьяным (второе) и, наконец, буйно пьяным (третье). Кончилось тем, что в 1938-м году французский консул без дальних слов отказался поставить печать на моем потрепанном, зеленоватом нансеновском паспорте, потому что, по его словам, я уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухлом досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко подстриженные усы и волосы бобриком.
Когда вскоре после того я перебрался в Соединенные Штаты и осел в Бостоне, я был уверен, что мне удалось отделаться от этой нелепой тени. Затем — а именно, в прошлом месяце, — у меня звонит телефон. Громкий, светлый женский голос назвался мадам Сивиллой Галль, близкой приятельницей мадам Шарп, которая в письме просила ее связаться со мной. Я был знаком с одной мадам Шарп и мне не пришло в голову, что речь могла идти о какой-то другой Шарп и что меня самого принимают за кого-то другого. Медоточивая мадам Галль сказала, что у нее на квартире собирается небольшая компания в пятницу вечером — так не могу ли я придти — судя по тому, что она обо мне слышала, мне будет весьма и весьма интересно. Хоть я и не терплю никаких сходок, я решил принять приглашение, вообразив, что отказом могу как-нибудь огорчить мадам Шарп, милую, коротко стриженую, пожилую даму в буро-малиновых штанах, с которой я познакомился на Кейп-Коде, где она жила на даче с какой-то женщиной помоложе; обе дамы были посредственными художницами левого направления и независимых средств, вполне любезные.
Вследствие неприятности, не имеющей отношения к предмету настоящего повествования, я явился к дому, где жила мадам Галль, значительно позже, чем предполагал. Очень древний лифтер, удивительно похожий на Рихарда Вагнера, угрюмо отвез меня наверх, и неулыбчивая горничная мадам Галль, у которой длинные руки свисали по бокам, ждала покуда я сниму пальто и галоши в передней. Главным украшением тут была одна из тех орнаментальных и, должно быть, чрезвычайно древних китайских ваз — в данном случае, высокая, слащавого цвета махина — которые неизменно приводят меня в ужасно подавленное расположение духа.
Проходя через претенциозную комнатку, набитую символами того, что сочинители коммерческих реклам называют «аттрибутами элегантного быта», и будучи ведом — теоретически, ибо горничная испарилась, — в большую, мягко освещенную, буржуазную гостиную, я начал понимать, что в таких именно местах вас могут познакомить с каким-нибудь старым олухом, едавшим икорку в Кремле, или с лубяным советским гражданином, и что моя приятельница мадам Шарп всегда почему-то пенявшая мне за мое презрение к Партийной Линии и к Коммунисту с его Голосом Хозяина, пожалуй, решила, бедняжка, что такое испытание благотворно скажется на моей кощунственной душе.
Хозяйка дома — оказавшаяся долголягой, плоскогрудой женщиной, с краской от губной помады на выпирающих резцах — отделилась от группы человек в двенадцать. Она наскоро представила меня почетному гостю и остальным ее гостям, и беседа, прерванная моим приходом, тотчас возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был хрупкого сложения человек с гладкозачесанными темными волосами и лоснившимся лбом, и лампа на высоком стебле у его плеча так ярко освещала его, что можно было разглядеть чешуйки перхоти на отвороте его сюртука и любоваться белизной его сцепленных рук, одна из которых, как мне пришлось убедиться, была невероятно вялой и влажной. У людей этого рода уже через два часа после бритья, когда непритязательная пудра сотрется, слабый подбородок, впалые щеки и несчастливый кадык обнаруживают сложное сочетание розовых пятен, покрытых иссиня-серой штриховкой. Он носил перстень с печаткой, и мне неизвестно отчего вспомнилась одна смуглая русская девушка из Нью-Йорка, которая так боялась, что ее могут по недоразумению принять за то, что у нее соответствовало понятию «еврейки», что она носила крест на горле, хотя имела столь же мало религиозного чувства, сколь и ума. Он говорил по-английски удивительно свободно, но его твердое произношение «джер» в слове «Германия» и упорно повторявшийся эпитет «wonderful», первый слог которого у него звучал как «вон», выдавали его тевтонское происхождение[2]. Он был, не то прежде, не то теперь или, может быть, собирался стать, профессором немецкого языка или музыки, или того и другого, где-то на Среднем Западе, но я не расслышал его имени и поэтому буду звать его д-ром Туфлингом.
— Разумеется, он сумасшедший! — воскликнул д-р Туфлинг, отвечая на какой-то вопрос, заданный кем-то из дам. — Посудите сами, ведь только умалишенный мог загнать войну в такую трясину. Я, так же, как и вы, безусловно надеюсь, что в недалеком будущем, если только он окажется в живых, его благополучно препроводят в санаторию в какой-нибудь нейтральной стране. Он это заслужил. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы оккупировать Англию. Безумием было думать, что война с Японией не позволит Рузвельту энергично вмешаться в европейские дела. Всего безумней тот, кто не способен понять, что кто-то другой тоже может оказаться сумасшедшим.
— Невозможно отделаться от ощущения, — сказала толстая маленькая дама, которую звали, кажется, мадам Мулбери, — что тысячи наших ребят, которые погибли на Тихом океане, были бы живы, если все эти аэропланы и танки, которые мы отдали Англии и России, были бы употреблены для уничтожения Японии.
— Совершенно верно, — сказал д-р Туфлинг. — И в этом была ошибка Адольфа Гитлера. Надо быть безумцем, чтобы не принять в расчет коварных интриг безответственных политиков. Надо быть безумцем, чтобы верить в то, что другие правительства будут действовать в согласии с принципами милосердия и здравого смысла.
— Я всегда думаю о Прометее, — сказала мадам Галль, — о Прометее, который украл огонь и был ослеплен разгневанными богами.
Пожилая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Туфлинга объяснить, почему немцы не восстали против Гитлера.
Д-р Туфлинг на минуту прикрыл веки.
— Мой ответ ужаснет вас, — сказал он с усилием. — Как вам известно, я сам немец, чистопородный баварец, хотя и законопослушный гражданин этой страны. И тем не менее, я сейчас скажу нечто совершенно ужасное о своих бывших соотечественниках. Немцы (его глаза с мягкими ресницами снова полузакрылись) — немцы — мечтатели.
К этому времени я уже, конечно, понимал, что мадам Шарп, приятельница мадам Галль, так же разительно отличается от моей мадам Шарп, как я сам от моего однофамильца. Бредовый кошмар, в который меня занесло, наверное, показался бы ему уютным вечером в компании родственных душ, а д-р Туфлинг — умницей и блестящим козёром. Застенчивость, да быть может, еще недоброе любопытство, не позволяли мне уйти. К тому же, когда я волнуюсь, я начинаю так сильно заикаться, что если бы я попытался сказать д-ру Туфлингу, что я о нем думаю, то вышло бы похоже на залпы мотоциклета, не желающего заводиться морозной ночью в потерявшей терпение загородной улочке. Я огляделся, чтобы убедиться в том, что люди вокруг меня подлинные, а не куклы из фарса «Грушка и Петрушка».