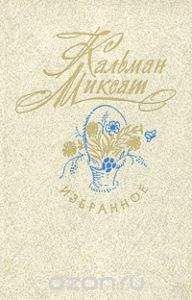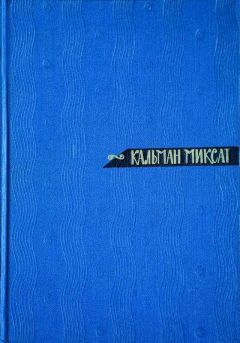Георгий Гулиа
Кальман Миксат смеется
Пока не требует поэта…
Вот именно: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», — он рождается, как все, и живет, как все. То же самое было и с Кальманом Миксатом.
Если скажу, что он родился в местечке Склабоня, будет ли удовлетворено ваше любопытство? Наверное, только отчасти. Ибо вы хорошо представляете себе, где Венгрия и где Будапешт. Но не сомневаюсь — вы и догадаться не сможете, где это самое местечко, которое дало великого писателя! Склабоня на картах не отмечено. Даже на крупномасштабных.
Должен сказать, что я с большим уважением отношусь ко всякой провинции, особенно к венгерской. Что бы делала столица, если бы не очаровательная провинция, вместилище милых традиций, хорошего здоровья и всякой всячины, без сосуществования с которой быстро хиреет любой главный город?
Обычно кровообращение идет от провинции к столице. Обратно кровь эта течет редко и, во всяком случае, медленно. Это не только у нас. Но почти в любой стране. А также и в Венгрии.
Итак, Миксат родился в Склабоне, чтобы состариться в Будапеште. Европейские столицы вобрали в себя слишком многое на протяжении веков, чтобы не быть сильнейшим магнитом. Растиньяк ехал в Париж, обуреваемый честолюбивыми помыслами низкого пошиба. Но тысячи молодых очень часто прославляют свои столицы, которые сначала неохотно принимают их в свои объятия, но позже ставят непрошеным пришельцам гранитные памятники, рассчитанные на века.
Склабоня находится на севере от Будапешта. Здесь — плавно очерченные горы, мягкие пейзажи. Для их воспроизведения более всего подходят пастель или акварель. Масло, на мой взгляд, внесло бы — хотя и едва заметный — элемент сочной фламандской живописи. Впрочем, это дело вкуса. Есть у меня друг-живописец, он пишет порою так, что ее сразу поймешь, масло это, гуашь или пастель.
Комитат Ноград примыкает к Словакии. Здесь среди венгерской и словацкой речи вырос и получил начальное образование Кальман Миксат. А родился он в 1847 году, за два года до смерти неукротимого Шандора Петефи. Я напомню: Петефи погиб с оружием в руках в революции 1848—1849 годов.
Когда Кальман займет свое место в гимназии города Римасомбат, он постоянно будет слышать имя Петефи. Ибо многие преподаватели гимназии были участниками революции. И не они ли вместе с другими борцами разносили молву о героической гибели Петефи? Народ утверждал, что поэт, павший на поле брани, и после смерти своей продолжал проклинать врагов и слова его доносились из-под земли.
В Будапеште
Каким был К. Миксат в юношеские годы? Наверное, был живой и веселый. Но несомненно тоньше в талии, чем на склоне лет.
Он умер в шестьдесят три года, то есть в 1910-м.
Да, годы сделали свое. Писатель отяжелел. Но его ум, по свидетельству современников, неутомимо сверкал: Миксат словно юноша нанизывал одну остроту на другую, вспоминал разные смешные истории и по-прежнему, на ходу, придумывал анекдоты.
Между прочим, мы мало занимаемся психологией писательского творчества. Мало исследуем годы детства, отрочества и юности, А ведь именно в это время формируется и выявляется многое из того, без чего писатель не писатель.
Именно в этот период жизни человек особенно много читает и многое запоминает из прочитанного. Глаз научается видеть то, что подчас ускользает от взгляда других. Ум все больше приспосабливается к образному и абстрактному мышлению. В эти годы закаляется воля, обостряется гражданское чувство. Сердце начинает реагировать на те незаметные толчки, которые постоянно ощущаются в развивающемся обществе. Ну, и первая любовь.»
Да, и первая любовь. Она приносит многое, требуя и от тебя самого многого. Если тебя действительно приметил Аполлон, то и любовь даст тебе нечто такое, что всю жизнь будет служить тебе, даже независимо от твоей воли. Многие народы и до сих пор прилежно исполняют обряд посвящения мальчика в мужчину, прокалывая ноздри стрелою. И эта стрела не забывается никогда. Первая любовь пробуждает не только новые чувства, но и заставляет по-иному относиться к миру. И тоже не забывается, как та стрела…
Будапешт, куда приехал продолжать учение молодой Миксат, я думаю, произвел большое впечатление на будущего писателя. Юридический факультет университета был избран неспроста. Многие мелкопоместные дворяне шли в юриспруденцию. Это был верный заработок. Все богатство Кальмана Миксата, пожалуй, заключалось в его дворянской грамоте. Но, возможно, был тут и еще один мотив. На мой взгляд, не следует его исключать полностью, тем более что им руководствовались некоторые молодые люди того времени.
Как, например, лучше помочь народу, терпящему столько бедствий от привилегированных классов? Разумеется, изучив юриспруденцию, хорошенько познакомившись с законами, овладев мастерством адвоката. Не правда ли; немного наивно? Разве Петефи и его друзья были адвокатами? Разве знание законов привело их на баррикады?
Но не будем несправедливы к наивным, но искренним побуждениям юной души. И не будем гадать об этом. Очень важно отметить бесспорное. А именно: юриспруденция бросила Миксата в самую гущу народа, способствовала встречам с различными людьми различных сословий, помогла поближе познакомиться с обездоленными и обиженными. Доброе сердце будущего писателя раскрывалось навстречу простому человеку, в поте лица своего добывающему кусок хлеба.
О литераторе надо судить не по тому, чего он не сделал или что мог бы совершить. Книги писателя — неопровержимые документы-первоисточники. Они говорят. И очень часто комментарии к ним излишни. При этом уже не имеют особого значения ни частная жизнь писателя, ни его происхождение, ни его намерения. Ибо время стирает многое, почти все, и на поверку остаются книги, и только книги!
Проба пера
Нет, Аполлон все еще не звал Миксата к священной жертве. Он только лишь приметил молодого студента, по ночам кропавшего небольшие рассказы. Приметить — еще не значит призвать. О ком бы ни шла речь: о поэте или прозаике, драматурге или критике. Ибо все они служат Музе, все они — единоутробные ее сыновья.
В будапештских изданиях появляются первые рассказы Миксата. Говорят, что они произвели впечатления не больше, чем заметки посредственного хроникера. Нельзя сказать, чтобы молодой студент испытывал недостаток в прилежании или трудолюбии. Или же в дозволенном карманом эпикурействе. Нет, все это было. Но дело в ином. Можно много писать. Можно много печататься. И все же быть далеким от того, что мы называем Литературой.
Я уверен, что и в то время Миксату нельзя было отказать в некоторой наблюдательности, необходимых обобщениях, добрых намерениях. И все-таки его рассказы не приносили ему успеха. Это мы должны заметить ради объективности. Миксату перевалило за четверть века. Но никто еще не мог сказать — будет Миксат литератором или нет? Нечто подобное, если припомните, произошло и с Бальзаком. До «Шуанов», которые он написал в двадцать девять лет, все его творения ничем особенно примечательны не были. Прозаик, как правило, всегда поздно зреет. (Я имею в виду настоящего.)
Но кто сказал, что проба пера — независимо от результатов — является ошибкой? Так может показаться только со стороны. Только человеку, незнакомому с писательским творчеством.
Если у тебя в душе теплится, что называется, искра божья, то время на опыты — даже малоуспешные — вовсе не потеряно. А неудачи порой еще более распаляют тебя, придают силу. Если, разумеется, суждено тебе стать настоящим писателем. Все же прочие, образумившись; начинают заниматься другими, может быть, не менее полезными делами.
Для Кальмана Миксата будапештские неудачи не прошли даром. Он вкусил от ядовитого плода творчества и как избранник Музы не мог уже жить без пера, без газеты. Надо полагать, неудачи не только не обескуражили, но, напротив, влили в него новую энергию.
Но, несомненно, были огорчения. И немалые. Как ни говори, но когда рассказы твои — а их не один, и не два — почти никого не трогают, кроме ближайших друзей, это не очень хорошо. Для личного самочувствия совсем нехорошо.
Я полагаю, в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь где-нибудь над Дунаем был брошен жребий: Миксат решил продолжить усеянный терниями путь журналистики, литературы.
Будапешт с его разительными контрастами — роскошью и бедностью, дворцами и трущобами — давал большую пищу для размышлений. Огромный торговый Пешт — средоточие деловой жизни всей Венгрии, — несомненно, возбуждал в молодом человеке множество мыслей. Нельзя было не задуматься, например, о судьбе обездоленного люда. Особенно, если имеешь доброе сердце. Ведь этот самый люд чувствовал на своей спине не только гнет собственных, венгерских вельмож, но и австрийских. На каждого честного венгерца давил не только властный официальный Будапешт, но давила и не менее властная Вена. Такова логика двойного пресса.