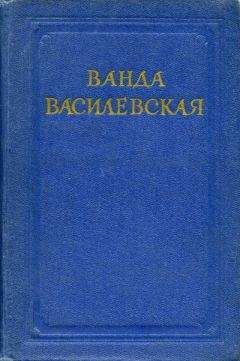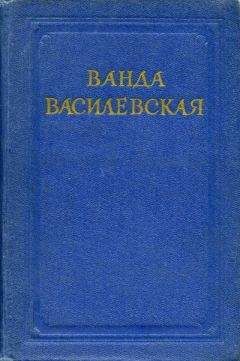Постановлением
Совета Министров Союза ССР
ВАСИЛЕВСКОЙ
ВАНДЕ ЛЬВОВНЕ
за трилогию «Песнь над водами»
(«Пламя на болотах»,
«Звезды в озере», «Реки горят»)
присуждена
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
второй степени
за 1951 г.
Ванда Василевская
ПЕСНЬ НАД ВОДАМИ
Трилогия
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЛАМЯ НА БОЛОТАХ
Едва схлынули полые воды и из-под весеннего разлива выступили мокрые островки земли, едва зашелестели сухие заросли тростника, покрытого серым налетом ила, и птичий гомон наполнил мир, как в Ольшинах появились два человека.
Приехал осадник[1] Хожиняк, о котором поговаривали еще с осени, — приехал и тотчас стал копаться в песке на склоне небольшого холмика, у своей новой избы, сверкающей белизной свежего леса. Но интересоваться осадником было некогда, потому что в одно время с ним прибыл инженер Карвовский и начались долгие совещания у старосты, хождение по домам, бесконечные разговоры, почесыванье в затылке, кропотливые и не слишком понятные расчеты.
Госпожа Плонская и теперь, как осенью, предложила инженеру свое гостеприимство: «Может ли быть иначе, не скитаться же вам по крестьянским избам!» Поэтому Ядвиге пришлось расположиться в одной комнате с матерью, а на ее диване спал инженер.
Впрочем, не это было самое мучительное, хотя ей и мешали спать двойные звуки — посвистывание матери и могучий, безудержный храп инженера, который доносился сквозь закрытую дверь и отгонял сон с устремленных во тьму глаз. Еще мучительнее было совместно проводить вечера, когда зажигали почти никогда не употребляемую тяжелую лампу с бронзовым резервуаром и бронзовой подставкой, когда вытаскивали из ящика камчатную скатерть и заваривали настоящий чай.
Лампа бросала светлый круг на стол, и приходилось сидеть в этом кругу против господина инженера, открывать кран допотопного самовара и подавать стакан за стаканом гостю, который мог пить без конца.
Госпожа Плонская сияла. Ее темные щеки покрывались ярким румянцем, она потирала руки, говорила добродушно, много и громко и лишь изредка украдкой бросала укоризненные взгляды на Ядвигу. Нет, на этот раз дело было не в надеждах, связанных с возможностью выдать дочь замуж: еще с осени, когда инженер появился впервые, было известно, что он женат. Поэтому к любезности госпожи Плонской не примешивались ни корысть, ни тайные надежды. Это была просто радость видеть у себя, оказывать гостеприимство человеку из совершенно другого мира — человеку с выхоленными и белыми руками, который носит не лапти, а черные начищенные до блеска полуботинки и чистый крахмальный воротничок, кто может рассказать интересные новости не только о Варшаве, которую госпожа Плонская собственно не знала, но даже о Петербурге — о старом, довоенном Петербурге, сохранившемся в ее памяти, и вообще о прежних временах, причем он был совершенно согласен с хозяйкой, что прежде все было лучше, умнее, честнее, осмысленнее.
Ядвига, несмотря на суровые взгляды матери, не принимала участия в разговоре. Она мрачно смотрела в стакан, где живой кровью поблескивал в свете лампы крепкий чай. Вот он сидит, господин инженер Карвовский, сидит, как и полгода назад, за тем же самым столом, говорит тем же самоуверенным тоном, словно ничего не произошло. Ядвига вдруг подняла глаза и взглянула прямо в худощавое, гладко выбритое лицо. Хотелось бросить в это ханжеское лицо, в эти спокойные глаза, в любезную улыбочку красиво очерченных губ грубый, нетактичный вопрос: «Где Петр? Что сейчас с Петром?»
Но она молчала. Постепенно нарастая, все выше поднималась в ней волна ненависти. Вот он сидит, инженер Карвовский, пьет чай, говорит круглыми фразами, вежливо, любезно улыбается. Доносчик. Сидит в темном пиджаке, вылощенный, гладко причесанный. Доносчик. Захочет — пойдет на озеро, к реке, захочет — может уехать, опять приехать сюда по своим подозрительным делам. Может спокойно разговаривать у старосты, потому что Петра уже нет. Петр уже не грохнет кулаком по столу, не растолкует крестьянам, не прикрикнет на Хмелянчука. Ох, теперь уж господин инженер Карвовский сделает все, что захочет, теперь-то он уж доведет дело до конца, получит нужные подписи, теперь-то наверняка… Ведь Петра нет.
Инженер не смотрел на Ядвигу. Он любезно улыбался госпоже Плонской, и она любезно отвечала улыбкой на улыбку. Какое ей дело до Петра и до всех этих дел? Если бы она знала, что ж, она бы улыбалась еще любезнее, еще вежливее придвигала бы инженеру блюдечко с вареньем и еще умильнее смотрела бы в гладкое, тщательно выбритое лицо.
Освещенный лампой стол уплывает, тонет в тумане, исчезает. Голоса разговаривающих доносятся словно издали — Ядвига не слышит слов. Петр… Нет Петра. И, пожалуй, надо прямо сказать себе, что никогда уже не будет. Десять лет, великий боже, десять лет… «Сколько же это мне будет тогда?» — мучительно подсчитывает Ядвига. Эти десять лет разрастаются в какое-то непонятное число, которое невозможно охватить умом, невозможно почувствовать, невозможно представить себе.
— Как только немного подсохнет, можно будет начать промер, — говорит инженер. — С делом уже покончено. Завтра пойдем подписывать договор.
Ну да. С делом уже покончено. Разумеется, покончено — ведь Петра уже нет и никогда не будет. Потому-то господин инженер и может так безмятежно распивать чай и улыбаться. Сколько же это времени ему пришлось сидеть здесь осенью? Два, три месяца? И все равно ничего не вышло. Потому что был Петр. Но теперь Петра нет. Именно потому и нет, что он мешал господину инженеру. И уже никогда не будет…
— Я еще загляну к старосте, — говорит инженер.
Ядвига инстинктивно встает. Как скрипит эта дверь в сенях!
Госпожа Плонская обращает к дочери суровое, злое лицо. Словно чья-то грубая рука сразу стерла краску с ее щек, улыбку с тонких губ.
— Как ты себя ведешь!
Ядвига медленно собирает со стола стаканы и блюдца. Звенят ложечки.
— А как я себя веду?
— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Сидишь, как сова, слова из тебя не вытянешь. Еле буркнет что-нибудь, если ее спросят. Милое гостеприимство!
— Это не мой гость.
— Тем более, тем более. Это мой гость, и, пока ты живешь в моем доме, тебе придется оставить свои капризы. Приятный, интеллигентный человек… Столько интересного рассказывает, а ты будто и не слышишь.
— Меня его рассказы не интересуют.
— А что тебя, собственно, интересует? Уставишься в стол и сидишь как дура. Хватит с меня этого. Ты должна быть с ним любезна, слышишь?
— Не буду любезна со шпиком.
Госпожа Плонская тяжело опускается на стул.
— Что ты сказала? Что ты сказала? Да как ты смеешь…
Голос ее прерывается от негодования. На щеках снова выступает краска — на этот раз краска гнева.
— Как ты разговариваешь? Что это вообще за выражения, что за слова?
— Я знаю, что говорю.
— Ядвига, Ядвига, ты плохо кончишь, вот увидишь. Берегись, Ядвига, ты плохо кончишь.
Ворсинки от мокрого полотенца липнут к стеклу, стаканы не вытираются. Сколько там еще блюдец осталось? Четыре или пять? Как это мать еще не заметила, что одно треснуло… Опять будут разговоры, трагедии, будто эти блюдечки главное в жизни…
Но мать не смотрит на блюдца. Шлепая стоптанными башмаками, она уходит в другую комнату, к себе, и ворчит там что-то под нос, сердито бормочет. Ядвига прикручивает фитиль, горящий желтым огнем, и потихоньку, стараясь не скрипнуть дверью, выскальзывает из дому.
Ночь тихая, теплая, хотя все кругом еще дышит сыростью. Башмаки вязнут в раскисшей земле, в разъезженной грязи. Из темноты выскакивает Убей.
— Идем, песик, идем…
Тропинка вьется по едва заметному пригорку, взбирается на другой, хлюпает в лощине брызжущая из-под ног болотная вода — и вот уже слышны шелест и шум, однообразная песня озера.
Ядвига садится на перевернутую вверх дном лодку. Она мокрая, — видно, кто-то катался днем по озеру.
Далекий стеклянный простор едва поблескивает во мраке. Волны одна за другой набегают на берег, откатываются и вновь возвращаются. Смешанный хор сотен шепчущих голосов, едва уловимый говор, словно относимый ветром и снова приближающийся, убаюкивает мысль. В такт этому шуму озера ровнее бьется сердце. Прохладное дуновение несется от зеркальной глади. Рука ощупью находит на земле гладкие камешки, разбросанные по берегу, сырой зернистый песок, створки раковин, наполовину зарытые в гравий. Небо без звезд. Туманное, темное, оно черной пропастью низко нависает над водой. Издали, из деревни, доносится лай собак. Ядвига видит немногие огоньки, притаившиеся у самой земли, мерцающие, как звезды. В деревне еще не спят. Ведь господин инженер Карвовский пошел к старосте.