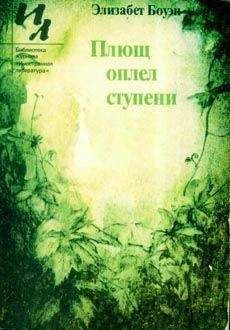– У нас и свои девочки есть, – сказала миссис Доусли, прочувствованно улыбаясь.
Это, похоже, решило дело. Мариина тетка, леди Римлейд, раскинулась поудобнее в кресле, еще раз обозрела пасторскую гостиную с ее воздушными белыми занавесками, настороженными фотографиями на стенах, серебряными вазочками в форме рожков, над которыми пенился розовый душистый горошек, и решила препоручить Марию этой благотворной обстановке.
– Значит, все будет как нельзя лучше, – сказала она тем добродушно-категорическим тоном, которым открывала бесчисленные благотворительные базары. – Итак, в следующий четверг, миссис Доусли, часам к пяти?
– Это будет как нельзя лучше.
– Вы очень любезны, – заключила леди Римлейд.
Мария не разделяла их восторга. Она злобно таращилась из-под шляпы и связывала перчатки узлами. Дело ясное, думала она, они берут меня за деньги.
Деньги сильно занимали мысли Марии: она не переваривала, когда люди жались и мялись, говоря о деньгах, сама она была рада-радехонька, что богата. Жаль только, что она не знает, во сколько оценят ее пребывание здесь: ее услали – погуляйте в саду, милочка, пока тетя поговорит минуту-другую с пасторской женой. Из первой части разговора, посвященной ее характеру, Марии удалось не упустить ни слова, пока она петляла под окнами гостиной среди разбитых в форме полумесяца клумб лобелии. Но едва голоса зазвучали по-новому – одна из дам заговорила безразлично, другая крайне почтительно, – миссис Доусли подошла к окну и как бы невзначай захлопнула его. И Марии хочешь не хочешь пришлось отступиться.
Мария училась в одной из тех удобных школ, где не упускают буквально ничего. Она была (именно так тетя Ина только что описала ее миссис Доусли) сирота, ранимая, подчас нравная, очень скрытная. В школе все эти качества вместе со склонностью горбиться, а также нелюбовью к пудингам учитывали и относились к ним заботливо и внимательно. Сейчас «формировали» ее характер, позже, когда она начнет выезжать придет пора заняться волосами и цветом лица. Вдобавок ее учили плавать, танцевать, начаткам французского, наиболее невинным аспектам истории и тому, что называется noblesse oblige[1]. Отличная школа, что и говорить. И тем не менее когда Мария приезжала из школы на каникулы, они изо всех сил старались вознаградить бедную сиротку, которой приходится жить вдали от дома.
Но тут, в конце четверти, перед самым летом, ее дядя Филип в своем эгоизме дошел до того, что всерьез заболел и впрямь чуть не умер. Тетя Ина стала писать реже и довольно бестолково, а когда Мария приехала домой, ей объявили (и это сироте!), что ее дядя и тетя едут путешествовать по морю, а ее куда-нибудь «пристроят».
Пристроить ее оказалось далеко не просто. Родственники и старые друзья (когда сэр Филип заболел, они наперебой распинались, что сделают для него все возможное), как один, ответили, что очень сожалеют, но именно сейчас никоим образом не могут взять Марию к себе, хотя, сложись обстоятельства иначе, они только об этом бы и мечтали. «Кто на поле свое, а кто на торговлю свою»[2], – сказал викарий, мистер Макроберт, когда к нему обратились за советом. И предложил своих соседей, мистера и миссис Доусли из Молтон-Пила. Он приезжал к ним великим постом служить. Леди Римлейд его представили, и он произвел на нее самое положительное впечатление – такой открытый, бодрый, серьезный. Миссис же Доусли, по общему мнению, очень любит детей и иногда берет ребят, чьи родители служат в Индии, чтобы свести концы с концами. Мариина тетка сразу поняла: Доусли – именно то, что нужно. Когда же Мария разбушевалась, она невозмутимо прикрыла глаза розовыми веками и сказала, что попросила бы Марию не дерзить. После чего на следующий же день повезла Марию и двух грифончиков к миссис Доусли. Если миссис Доусли и впрямь окажется такой участливой, она, пожалуй, решится доверить ей и собачек.
– Миссис Доусли говорит, что у нее и свои девочки есть, – сказала леди Римлейд по дороге домой. – Вполне вероятно, что ты с ними подружишься. Вполне вероятно, что это они расставили цветы в гостиной. По-моему, цветы были расставлены недурно, я обратила на них внимание. Разумеется, такие крохотные вазочки, да еще в форме рожков, не в моем вкусе, но пасторскую гостиную они очень оживляют, придают ей такой домашний, уютный вид.
Мария умело выхватила нужное слово.
– Кто не был в моем положении, – сказала она, – не понимает, что значит не иметь своего дома.
– Но, Мария, девочка моя…
– Не хочу даже говорить, что я думаю об этом месте, куда вы меня отсылаете, – сказала Мария. – Я попрыгала на кровати в мезонине, который мне отвели, так вот – она твердая как камень. Надеюсь, вам известно, что в домах приходских священников кишмя кишит зараза? Конечно же, я постараюсь привыкнуть, тетя Ина. Не хочу, чтобы вы считали, будто я жалуюсь. Но вы, конечно же, не представляете себе, чем это для меня чревато. Когда девушка в моем возрасте – один необдуманный шаг, и вся ее жизнь исковеркана.
Тетя Ина никак не отозвалась, подтянув плед повыше, она прикрыла глаза веками, словно ей в лицо дул ветер.
Вечером, когда миссис Доусли пошла закрыть курятник, она наткнулась на мистера Хэммонда, викария, который косил крикетную площадку перед пасторским домом. Мистер Хэммонд не знал устали и хотя, на вкус Доусли, слишком уж тяготел к католической обрядности, любил работать на воздухе. Он «по договоренности» столовался в пасторском доме, потому что его хозяйка не умела готовить, а молодому человеку надо есть как следует, к тому же девчурки миссис Доусли были еще в тaком возрасте, что никто не посмел бы заподозрить миссис Доусли в видах на викария. Поэтому она решила, что ей следует заранее оповестить его о приезде Марии.
– А у нас в доме скоро прибавится народу, – сказала миссис Доусли. – Племяшка леди Римлейд, Мария – ей лет пятнадцать, – поживет у нас до конца каникул, пока ее дядя и тетя будут в отъезде.
– Здорово! – упавшим голосом сказал мистер Хэммондон терпеть не мог девчонок.
– Славная подбирается компания, верно?
– Что и говорить: чем больше, тем веселее, – ответствовал мистер Хэммонд.
Молодой верзила с квадратной челюстью, обычно он изъяснялся довольно односложно, однако миссис Доусли полагала, что жизнь в кругу семьи ему на пользу.
– Чего бы им всем не приехать, – сказал мистер Хэммонд, не прекращая орудовать газонокосилкой.
Миссис Доусли, прижав одной рукой миску и держа корзину в другой, застыла на краю площадки, не сводя глаз с викария.
– Она славная девчушка, хорошенькой ее не назовешь, но такое серьезное личико, видно, с характером. Единственный ребенок, ничего тут не попишешь. Когда они уезжали, я ей сказала: мол, надеюсь, тебя вскоре водой не разольешь с Дил-ли и Дорис, и она вся так и рассиялась. У бедняжки нет матери, страшно ее жалко, прямо сил нет.
– У меня у самого сроду не было матери, – ответствовал мистер Хэммонд, мрачно толкая перед собой газонокосилку.
– Как же, как же, я помню. Но почему-то девочек мне всегда жальче. Леди Римлейд меня прямо покорила, такая она простая. Я ей говорю: жизнь у нас здесь очень неприхотливая и Мария, если она у нас поселится, будет жить точно так же, а леди Римлейд мне и говорит: мол, Мария только того и хочет… Понимаете, по годам Мария где-то посередке между Дилли и Дорис.
Миссис Доусли запнулась, ее осенила мысль, что через три года Мария начнет выезжать, и тогда в ее честь зададут бал. Она вообразила себе, как рассказывает своей подруге, миссис Брадерхуд: «Это просто ужас что такое, но я буквально забыла, как выглядят мои девчурки. Они буквально не выходят от леди Римлейд».
– Мы добьемся, чтобы бедняжка чувствовала себя у нас как дома, – бодро сказала она мистеру Хэммонду.
Семейству Доусли приходилось часто приноравливаться к детям из Индии, поэтому они не оставляли надежды и в случае с Марией. «С характером приходится считаться» – таков был девиз этого участливого семейства, через которое нескончаемой вереницей проходили викарии с нежелательными пристрастиями, вздорные служанки, постоялицы с исканиями и плаксивые смуглолицые дети. Семья терпеливо засасывала Марию в свое лоно, и Марии вскоре начало казаться, будто она дубасит перину. С лиц Дорис и Дилли не сходила улыбка, невзирая ни на что, они сияли. Мария все не могла решить, как бы их обхамить получше: они испытывали ее находчивость. Ей и в голову не приходило, что Дилли думает про себя: «Ну и лицо у нее – ни дать ни взять больная мартышка», Дорис же – «она ходила в одну из тех школ, где во главу угла ставят суровую простоту», с ходу решила, что девчонка, которая носит бриллиантовый браслет, – ниже всякой критики. Дилли тут же осудила себя за такую недобрую мысль (хоть и не преодолела искушения записать ее в дневнике), Дорис же только сказала: