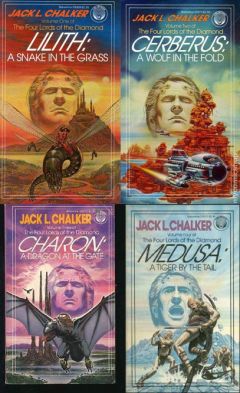Симон Вестдейк
Три ландскнехта
— Пойду за веревкой, — сказал Швед и смачно выругался. Пока он не исчез за дверью, его голубые круглые глаза продолжали угрожающе глядеть на крестьянина.
Двое оставшихся еще ближе приступили к крестьянину, чтобы уже в который раз заставить его говорить, прибегая для этого то к угрозам, то к уговорам, то к пыткам. И каждый раз, не считая нужным придумывать новые доводы, они начинали все сначала. «Эй, мужик, где у тебя деньги, говори сейчас же, сию минуту!» Но хотя в большой пустой горнице с глиняным полом и гладкой изразцовой печкой все так и гудело от их криков, крестьянин оставался немым.
— Говори! Говори! — орал Гнилой. — Говори, а не то!.. Вот принесет он сейчас веревку, и тогда тебе конец, и это так же верно, как то, что цербер — адский пес, а мы еще хуже него. Где ты хранишь деньги, здесь или в другом месте? Берегись, он пошел за веревкой, так что ты уж лучше скажи нам, где ты их спрятал, дерьмо ты эдакое!.. — И Гнилой разразился ругательством, состоявшим из слов на пяти языках.
— Да-да, пошел за веревкой, — подтвердил Юнкер свойственным ему спокойным, любезным тоном, как бы говоря: тут уж ничего не поделаешь. Да, собственно, так оно и было. Ведь, хоть и не обменявшись ни словом, все они знали, что в ту минуту, как долговязый швед вышел из дому, крестьянин был приговорен к смерти. Они были не хуже других людей того же сорта, и, так как крестьянин ничего не хотел, а может быть, и не мог им открыть, им только и оставалось, что из милосердия добить его. Юнкер схватился за шпагу. Но в ней не было необходимости. У его ног лежали два раскаленных докрасна ножа, рядом дымилась лужа воды и головешки, выхваченные из стоявшего поодаль горшка с углем, а в другом углу сверкали сваленные в кучу пики и мечи. Оружия у них было с избытком.
— Далекарлийцу[1] этого очень хочется, — с насмешливой ухмылкой оправдывался он, — хотя, если крестьянин сдохнет, мы останемся ни с чем. Но я не прочь поглядеть, как он сдохнет. Все равно этого мужика надо прикончить.
— Кое-чем мы все же обязаны шведам, даром что они язычники. Научили нас пить пунш, а также применять конский волос и веревку. Но вообще-то паписты мне больше по душе.
Снаружи по застывшей земле проскрипели шаги, застонала дверь амбара, и звуки эти далеко разнеслись в прозрачном зимнем воздухе и проникли в избу, где, несмотря на горшок с горячими углями, было так же холодно, как и на дворе.
— Тс-с, — остановил Гнилой Юнкера, затянувшего:
Священный Рим имперский, тебе желаем мы…
Связанный крестьянин зашевелился, словно хотел что-то сказать. Наконец-то! И не удивительно: хозяин такой с виду зажиточной усадьбы, хотя другие бандиты успели еще до них растащить большую часть домашней утвари и скота. Сокровища! Сбудутся мечты многих лет! Пуховые перины, угодливые спины слуг, жареная дичь, гусиная печенка, «Бизамбергское», «Аликанте», «Токайское», вот это да!
Нагнувшись вперед, оба ландскнехта жадно впивали дыхание крестьянина. Оно предвещало им поток золота, драгоценные, чистейшей воды камни, которые, подобно источнику, текущему под землей, были невидимы, и только истерзанный мозг этого человека мог подсказать им, где его отыскать… Но они не услышали ни единого звука.
Сидевший на стуле связанный мужчина лет около шестидесяти был плотный и жилистый, Но никто бы в деревне его сейчас не узнал, а впрочем, и деревни-то больше не было…
— Дерни его за волос, — сказал Гнилой, указывая на толстый конский волос, концы которого торчали изо рта крестьянина, и украдкой погладил себя по шее, где выделялась медного цвета опухоль, усеянная нарывами и язвами. Сувенир особого рода, который все, кто его видел, считали признаком французской болезни. Но что только не относили за счет французской болезни? И ломоту в суставах, и слабость в ногах, и нечистую кожу, и постоянную жажду, и гной в ушах. Французская болезнь — при этих словах солдаты оборачивались лицом к Западу и сжимали кулаки в ярости против короля Генриха,[2] который был тут ни при чем, но о нем писали, что он враг Католической лиги, и уже этого одного было достаточно, чтобы его ненавидеть. Люди, более склонные к размышлению, винили во всех бедах ядовитые болота или полет птиц. Были и такие, что просто льнули к сидевшим на корточках вокруг бивачных костров широкобедрым, сочным маркитанткам. Должен же солдат хоть где-то чувствовать себя в безопасности…
Но в данном случае никакой французской болезни не было. Не пылая энтузиазмом к военному ремеслу, хорват, которого позднее прозвали Гнилым, вступил аркебузиром в армию Валленштейна.[3] В первые годы он говорил путано и сбивчиво и, чтобы придать своим словам большую убедительность, то и дело крестился. Лошадям своим он давал клички по названиям планет, как в Тридцатилетнюю войну было принято называть пушки. Это был по всем статьям плут и хотя не пьянствовал, но азартно играл в кости, крал и грабил, за что и стал одной из первых жертв железной дисциплины Валленштейна, порожденной его честолюбием, усердием и ранней подагрой. В одно осеннее ветреное утро хорват в компании с семеркой других мародеров уже болтался на ветке раскидистого дерева; последнее, что он видел, были царапавшие ему шею золотистые листья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Но еще до того, как веревочная петля стиснула ему горло и он стал задыхаться, перед его взором выросло серебряное распятие и он подумал: «Господи, да ведь это благородный металл!..»— и только потянулся, чтобы его схватить, как сук надломился и он рухнул на землю, увлекая в своем падении лестницу, священника, поранив заодно руку палача, который приставил лестницу к восьми сучьям этого дерева. Наблюдавший с пригорка за казнью молодой офицер со смеху чуть не свалился с лошади, а когда хорват, несколько очнувшись, забормотал что-то на своем варварском жаргоне насчет золота и серебра, офицер — из жадности и суеверия — решил даровать ему жизнь. Считалось, что воскресший способен отыскивать клады; и вот в течение многих недель он день за днем со свежесрезанной рогулькой прочесывал отлогие луга возле сожженных деревень или ковырялся в руслах высохших ручейков. Но это не имело других результатов, кроме того, что на шее у него появилась медного цвета опухоль, какая бывает у новорожденного, если его мать до родов испугалась пожара. Опухоль захватила всю шею, и так как она сочилась гноем, то ему и дали прозвище Гнилой, к которому он с той поры привык, как к своему имени. Жилось хорвату недурно, но вскоре все это ему опротивело и он дезертировал, долго бродяжничал, пока не присоединился к армии Тилли,[4] относившегося к мародерству и разврату своей солдатни более снисходительно, чем герцог Валленштейн. Что касается алчности хорвата, то она ничуть не убавилась, а по части пыток он не отставал от служителей инквизиции, хотя и он нашел чему поучиться у Шведа.
— Ну, мужик! Где твои деньги! Может, тогда еще спасешься, — повторял он, а Юнкер, у которого из всей троицы были самые тонкие пальцы, дергал за конский волос язык крестьянина.
Загремели шаги, стукнула входная дверь.
— Вот и веревка! — заорал Швед, заполнив проем двери своей массивной фигурой. — А что, Гнилой против веревки?
— Давайте уж вы вдвоем, — только и сказал хорват и отошел к окну, потирая шею.
Несколько минут спустя безжизненную голову затянули два двойных узла, так чтобы можно было дергать за веревку. Ладскнехты, конечно, понимали, что проку от этого не будет, но им хотелось поупражняться в новой игре.
— Давай, давай, ставлю на Шведа, вперед, старая солдатня, в дьявола, в бога, в душу!
Гнилой старался не подать вида, что стянутое и изуродованное веревкой лицо действует ему на нервы, и потому изощрялся в солдатском остроумии. Связанная в одну петлю веревка заскользила и заскрипела надо лбом крестьянина.
Азарт, с которым хорват все время ставил на Шведа, подхлестывал Юнкера, он напрягался, призвав на помощь все мышцы своего сильного тела. Неужели он не докажет вонючему перебежчику и полусгнившему дезертиру, чего стоит настоящий воин армии Тилли? Он-то всегда служил под началом этого полководца, такого же валлонца, как и он сам! Правда, из-за бабы ему пришлось расстаться с офицерским званием, но все же он выше этих бродяг.
Никто из них ничего не услышал, ровным счетом ничего, даже хорват, все еще стоявший, прислонившись к окну. Не было слышно шагов. И все-таки кто-то вошел. Как будто это снова вернулся Швед, с другой веревкой… Все, что угодно, могло прийти в голову Гнилому, пока он не различил в темном проеме двери очертания детской фигурки — девочка лет четырнадцати в красной косынке, из-под которой выбивались две темные косички. Держалась она прямо и пристально глядела на них. Хотя она стояла у самой двери, она к ней не прислонялась. Гнилой это ясно видел. Двое других продолжали держать в руках веревку, как придворные, которые с помощью вожжей учат ходить маленького принца. Безжизненное тело крестьянина подалось вперед. Полминуты царила полная тишина; девочка не шевелилась и ждала. Она так бы и осталась стоять в ожидании до самого вечера, ничуть не робея и не помышляя о бегстве, — это они прекрасно поняли, даже Юнкер, обычно столь легкомысленный. Она только глядела на них, но как! Глядела испытующе, голубыми глазами, выделявшимися на бледном личике под выпуклым детским лбом. Она видела все. Даже если бы ландскнехты и захотели, скрыть они не могли ничего. От стула, на котором сидел связанный, ее взор скользнул к раскаленному горшку с кочергой и щипцами, потом к груде оружия, оттуда к Гнилому, к Шведу, потом к Юнкеру; глаза ее перебегали от одного к другому как бы для того, чтобы связать их крепче, чем обвисшая веревка. Фигуры людей, каждая в отдельности, и окружающие их предметы только теперь предстали в своем подлинном виде, озаренные безжалостным голубым светом, так и манившим их к себе. И в этом голубом свете коричневато-красная шея хорвата впервые после несостоявшейся казни превратилась в настоящую гнилушку, кулаки уроженца Далекарлии стали еще более волосатыми и похожими на две кочерыжки, кружева юнкерского воротника — еще более грязными, а морщины на его молодом, порочном лице — более глубокими. Пятна крови превратились в очертания зверей, головешки и угли — в черных гномов и в маленьких оборотней. Они боязливо и настойчиво двигались вперед и сгинули лишь тогда, когда голубые глаза выпустили их из своего плена. А три ландскнехта все еще стояли неподвижно, так неподвижно, как не стояли и на торжественных смотрах войск, которые проводили Валленштейн и Тилли.