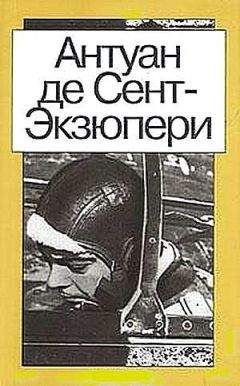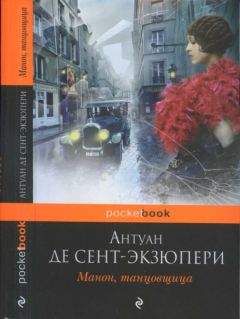Антуан де Сент-Экзюпери
•
НОЧНОЙ ПОЛЁТ
Холмы под крылом самолёта уже врезали свои чёрные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают своё золото с той же щедростью, с какой ещё долгое время после ухода зимы льют снежную белизну.
И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вёл почтовый самолёт на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани: по спокойствию, по лёгким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.
Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шёл от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.
Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединённой фермой; казалось, она плывёт ему навстречу по волнам прерии и несёт на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.
«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдём на посадку.»
Бортрадист передал это сообщение по всей линии.
На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.
Радист передал пилоту записку:
«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»
Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:
— Полетим дальше.
А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение.
Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Всё, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — всё это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела — ведь и в тяготах есть своя отрада — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома низменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесённые старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти — обо всём, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия.
Десять минут — и снова в путь.
Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звёзд и, поманив его ещё раз, рассеялась пылью.
«Уже не видно приборов, надо включить свет.»
Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднёс руку к лампочке — пальцы почти не окрасились.
«Слишком рано.»
А ночь поднималась тёмными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолёт входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив.
Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полёте не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.
Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нём поудобнее.
Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил её на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашёл её, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолёта в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора — все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полёт, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.
И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звёздочка во мраке — это дом, и в нём — одиночество. А та, что погасла, — это дом, приютивший любовь…
Или тоску. Дом, который не шлёт больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомёк, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесённые из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолёт, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять войн — сквозь десять гроз, прошёл по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет её, пролетев восемьсот километров, уже достиг кого-то — как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.
Итак, три почтовых самолёта — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолёт, который около полуночи отправлялся в Европу.
Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полёте и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.
Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперёд по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трёх самолётов ещё не приземлился — и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолётов из ночи на берег.
Подошёл служащий и передал Ривьеру радиограмму:
— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.
— Хорошо.
Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдаёт ему один самолёт; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернёт ему и два других самолёта.
Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черёд тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолётов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь ещё одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею…» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда ещё его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, — волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, всё это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришёл он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грёзах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолёты…