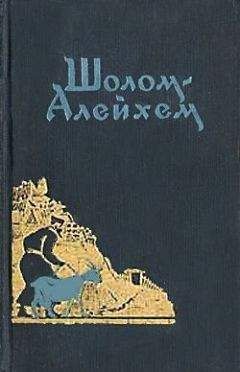1
– Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Не правда ли, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! – и бежать, бум! – и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу; когда же я протянул руку к струне, он хвать меня за ухо и торжественно проводил до самой двери: «Ну-ка, озорник, марш отсюда!»
Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех: от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плеши до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов – меня ведь гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.
После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне воображалось, будто я сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза – ну точно Шайка, две капли воды.
Приметил наш учитель Ноте-Лейб, – было это как раз на уроке, – что я двигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху:
– Ах ты бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!
2
И я дал себе слово: чего бы это мне ни стоило, что бы ни случилось, – я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? – Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, по наследству от дедушки реб Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два мои дяди и покойный отец. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен достаться ему; дядя Сендер утверждал, что именно потому, что он самый младший, диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у дедушки, то диван должна наследовать она. Это – первое. А во-вторых – диван стоит у нас в доме, значит – это вообще наш диван. Тут вмешались обе тетки, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном… В городе только и было разговору, что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.
Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, точно яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его достоинством – никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.
На этот диван я и обратил теперь свои взоры. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне горсть волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал, на чудеса я никогда не полагался: выменял канифоль у другого приятеля Меера-Липы, – дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота обратно разменяться, но он ни за что не хотел.
– Вишь какой умник нашелся! Весь в папашу! – раскричался он. – Я три ночи тружусь – точу, точу, все (пальцы себе порезал, а он, видите ли, является – давай обратно меняться!
– Гляди-ка! – говорю я. – Ну, и не надо! Диво какое, стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!
Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно дело: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако отец спросонья услышал какую-то возню, и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу – отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же собственно я делаю. Потом уже, заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.
– Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? – кричала мать плача.
– Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! – отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.
– Зачем же тебе так огорчаться? – говорила ему после мать. – Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!
3
Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильней становилась эта страсть. А тут еще, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего – звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в подкороченной капоте, с заложенными за уши пейсами и в крахмальном Еоротничке. У него был изрядный нос, который выглядел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды; поэтому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, большая, и звали ее «праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все, от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнить самую сложную мелодию губами, воспроизвести ее на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!
С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят – флейтист Пиня, парень лет пятнадцати, босой, и спрашивает, понравилась ли мне игра.
– Хотел бы я, – отвечаю, – лет через десять так играть!
– Можешь этого добиться раньше, – говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть; а если угодно, так и он сам обучит меня.
– На каком инструменте ты бы хотел играть? – спрашивает он. – На скрипке?
– На скрипке.
– На скрипке? – повторяет он. – А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голодранец, как я?
– Платить-то я смогу, – отвечаю ему, – да только… об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.
– Боже упаси! – говорит он. – Охота болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос… Но, смотри, никому ни слова; отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!
4
Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.
Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу.
– Шолом, Нохума Вевикова… сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.
Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул капоту и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент – это скрипка; что старше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка – мать всех инструментов.
Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.
– Скрипка, понимаешь ли, – говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией, – понимаешь ли, скрипка – самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувал-Каин, то ли Мафусаил, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в школе учишься. Второй скрипач был царь Давид. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей. Все лучшие скрипачи в мире евреи – вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини. Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или вовсе в лесу – для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, нахлебнички, за инструменты!