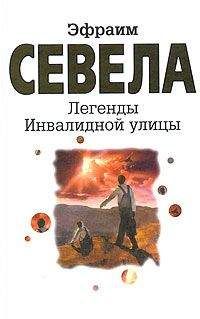Существуют браки, возникновение которых не может представить себе даже самая изощренная художественная фантазия. Их следует принимать, как принимаешь на театре странные сочетания таких противоположностей, как старость и тупость с красотой и жизнерадостностью, которые обычно служат математически рассчитанными основаниями фарсовых положений.
Супруга адвоката Якоби была молода и хороша собой — поистине очаровательная женщина. Скажем, лет эдак тридцать назад ее нарекли при крещении именами Анна, Маргарета, Роза, Амалия, но никогда не называли иначе чем Амра, по начальным буквам этих имен. Амра — несомненно, своим экзотическим звучанием имя это гармонировало с ее существом, как ни одно другое. Хотя густые мягкие волосы Амры, причесанные на косой пробор и приподнятые над узким лбом, были каштанового цвета, но кожа ее, по-южному матово-смуглая, обтягивала формы, казалось, созревшие под солнцем юга и пышной своей томностью напоминавшие прелести юной султанши.
С этим впечатлением, вызывавшимся ее сладострастно-ленивыми движениями, вполне совпадало и другое — что рассудок у нее в высшей степени подчинен сердцу. Стоило ей взглянуть на кого-нибудь невинными карими глазами с одной ей свойственной манерой высоко поднимать красивые брови на трогательно узкий лобик, — и это всем становилось ясно. Впрочем, сама она не была столь простодушна, чтобы этого не знать, и старалась поменьше говорить и не пускаться в длинные рассуждения. Ведь о женщине хорошенькой и неболтливой ничего дурного не скажешь!
О, слово «простодушна» было здесь, пожалуй, наименее подходящим. Во взгляде ее читалась не столько глупость, сколько какая-то сладострастная хитрость; эта женщина была не так глупа, чтобы натворить бед.
Нос ее в профиль казался чуточку великоватым и мясистым, зато крупный рот с полными губами был безупречно красив, хотя и лишен иного выражения, кроме чувственного.
Так вот, эта обольстительная женщина была супругой сорокалетнего адвоката Якоби, и каждый, кто видел его, только диву давался. Он был грузный мужчина, этот адвокат, даже более, чем грузный, — настоящий колосс! Ноги его, неизменно обтянутые серыми брюками, своей бесформенной массивностью напоминали ноги слона, сутулая от жира спина была словно у медведя, а необъятную окружность живота постоянно стягивал кургузый серо-зеленый пиджачок, который застегивался на одну-единственную пуговицу с таким трудом, что стоило только расстегнуть ее, как полы пиджачка взлетали чуть не до плеч. На этот огромный торс, почти лишенный шеи, была насажена сравнительно маленькая голова с узкими водянистыми глазками, коротким приплюснутым носом и обвисшими от собственной тяжести щеками, между которыми терялся крошечный рот с печально опущенными уголками. Сквозь бесцветную редкую и жесткую щетину, покрывавшую круглый череп и верхнюю губу адвоката, просвечивала кожа, как у перекормленной собаки.
Ах, все, наверно, понимали, что его тучность отнюдь не свидетельствует о здоровье. Ожиревшее тело, огромное в длину и в ширину, было лишено мускулатуры, а отекшее лицо часто наливалось кровью и также внезапно вдруг покрывалось желтоватой бледностью; рот его при этом как-то кисло кривился.
Практика у него была весьма ограниченная, но так как он обладал солидным состоянием, отчасти благодаря приданому жены, то супруги, кстати сказать, бездетные, занимали на Кайзерштрассе большую комфортабельно обставленную квартиру и вели светский образ жизни — в угоду вкусам госпожи Амры, разумеется, ибо немыслимо себе представить, чтобы такая жизнь нравилась адвокату, с вымученным усердием принимавшему участие в разнообразных развлечениях. Этот толстяк отличался необычным характером. Не было на свете человека более вежливого, предупредительного, уступчивого, чем он; но все вокруг, может быть, и не отдавая себе в том отчета, чувствовали, что за его чрезмерно угодливыми и льстивыми манерами кроется малодушие, внутренняя неуверенность, и всем становилось не по себе. Нет ничего отвратительнее, чем человек, который презирает самого себя, но из трусости и тщеславия хочет быть любезным и нравиться. Именно так, по-моему, и обстояло дело с адвокатом: в своем раболепном самоуничижении он заходил так далеко, что уже не был способен сохранить нормальное чувство собственного достоинства. Адвокат мог сказать даме, приглашая ее к столу:
— Сударыня, я отвратительнейший человек, но не соблаговолите ли вы… — и это он произносил без намека на шутку, кисло-сладко, вымученно и отталкивающе.
О нем, например, рассказывали следующий достоверный анекдот. Однажды, когда адвокат прогуливался по улице, откуда ни возьмись появился нагловатый посыльный, толкавший перед собою ручную тележку, и колесом ее основательно придавил адвокату ногу. Когда он наконец остановил тележку и обернулся, адвокат, совершенно растерявшийся, бледный, с трясущимися щеками, низко поклонился и пробормотал:
— Извините.
Ну, как тут не возмутиться!
Этого странного колосса, казалось, всегда мучила нечистая совесть. Прогуливаясь об руку с супругой по бульвару, он время от времени бросал робкие взгляды на Амру, выступавшую восхитительно упругой походкой, и раскланивался направо и налево так усердно, боязливо и раболепно, словно испытывал потребность, смиренно склоняясь перед каждым встречным лейтенантом, просить прощения за то, что он, именно он, обладает этой прекрасной женщиной. И рот его принимал жалостно-угодливое выражение. Казалось, адвокат умоляет: только не смейтесь надо мной.
Мы уже говорили, что никто не знал, почему, собственно, Амра вышла замуж за адвоката Якоби. Но он любил ее пылкой любовью, редко встречающейся у людей его телосложения, любовью покорной и боязливой, вполне соответствовавшей его характеру.
Часто поздним вечером, когда Амра уже отдыхала в своей просторной спальне, высокие окна которой были завешены тяжелыми гардинами в цветочках, к широкой кровати жены так тихо, что были слышны не шаги, а лишь легкое дрожание пола и мебели, подходил адвокат, опускался на колени и с величайшей осторожностью брал ее руку. Амра в таких случаях обычно высоко поднимала брови и молча, с выражением чувственной злобы наблюдала за своим огромным супругом, распростертым перед нею в слабом свете ночника. Он же, бережно приподняв своими неуклюжими, дрожащими пальцами рукав ее рубашки, прижимал толстое печальное лицо к мягкой впадинке на полной смуглой руке, там, где сквозь кожу просвечивали тонкие голубые жилки. И робко, с дрожью в голосе начинал говорить так, как в обычной жизни не говорит ни один разумный человек:
— Амра! — шептал он. — Любимая моя Амра! Я тебе не помешал? Ты еще не спала? Бог мой, целый день я думал о том, как ты прекрасна и как я люблю тебя! Выслушай меня, мне надо многое тебе сказать. Но это очень трудно выразить! Я люблю тебя так сильно, что сердце мое иногда сжимается, и я не знаю, что мне с собою делать. Я люблю тебя сверх сил. Ты этого, пожалуй, не поймешь, но ты уж поверь. И хоть разочек скажи, что чуть-чуть благодарна мне за это. Знаешь, ведь такая любовь, как моя, должна цениться в этом мире. Скажи, что, даже если ты не можешь любить меня, ты никогда мне не изменишь, не предашь, только из благодарности, из одной лишь благодарности… Я пришел умолять тебя об этом, умолять всем сердцем…
Кончались такие речи обычно тем, что адвокат, не меняя позы, начинал тихо и горестно плакать. Амра бывала тронута, гладила рукой щетину своего супруга и, утешая его, повторяла тягучим насмешливым тоном, каким разговаривают с собакой, подползшей лизнуть ноги господина:
— Да!.. Да!.. Славный ты пес!
Такое поведение Амры, конечно, не было поведением порядочной женщины. Настало время наконец раскрыть правду, о которой я до сих пор умалчивал: увы, она лгала мужу, обманывая его с неким господином по имени Альфред Лейтнер. Молодой музыкант, не без способностей, он в свои двадцать семь лет приобрел довольно широкую известность забавными маленькими пьесками; был он стройным мужчиной с дерзким лицом, светлыми, немного растрепанными волосами и ясной, самоуверенной улыбкой, отражавшейся в его глазах. Он принадлежал к современным не слишком требовательным к себе артистам, которые прежде всего стремятся быть счастливыми и приятными, свой маленький талант используют, чтобы придать собственной персоне побольше обаяния, и любят разыгрывать в обществе роль наивного гения. Обдуманно ребячливые, аморальные, беззастенчивые, веселые, самодовольные и притом достаточно здоровые, чтобы нравиться себе даже в болезни, они и вправду довольно милы в своей суетности, пока их не коснется беда. Но горе этим счастливчикам, этим фиглярам, если на них обрушится серьезное несчастье, которым не пококетничаешь, не порисуешься. Они не сумеют с достоинством перенести его, не будут знать, что им «предпринять» со своими страданиями, и погибнут, — но это уже тема для другого рассказа.