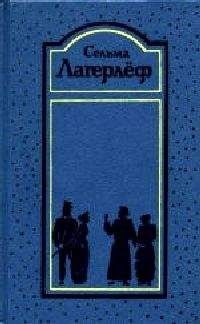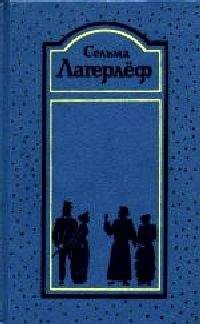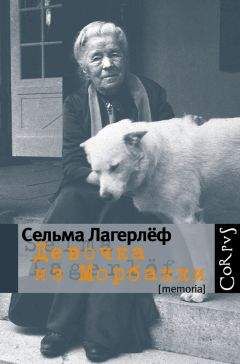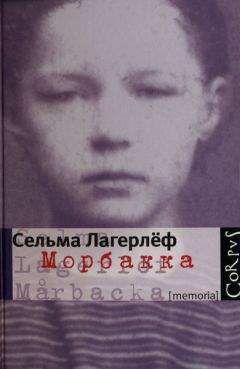I
Что бы ни говорили про Тею Сундлер, нельзя не признать, что она лучше, чем кто бы то ни было, умела обходиться с Карлом-Артуром Экенстедтом.
Взять, к примеру, Шарлотту Лёвеншёльд. Ведь она тоже хотела уговорить его поехать в Карлстад и помириться с матушкой. Но чтобы побудить его к этому, она напомнила ему, кем матушка всегда была для него, и под конец попыталась даже припугнуть его, сказав, что он, дескать, может утратить дар проповедника, каковым обладал до тех пор, если покажет себя неблагодарным сыном.
Она, казалось, хотела, чтобы он приехал домой подобно блудному сыну и стал бы просить принять его в дом из милости. Это ему никак не подходило, особенно при том состоянии духа, в каком он теперь пребывал, когда его проповеди имели столь большой успех и прихожане боготворили его.
А когда Tee Сундлер нужно было склонить его снова поехать в Карлстад, она повела себя совсем по-иному. Она спросила его, правду ли говорят, будто дорогая тетушка Экенстедт требует обыкновенно, чтобы у нее просили прощения за малейшую провинность. Но ежели она столь требовательна к другим, то и сама, уж верно, готова…
Да, ему пришлось признать, что она такова и есть. Стоило ей, бывало, понять, что она неправа, она тотчас была готова все уладить и помириться.
Тут Тея напомнила ему, как милая тетушка Экенстедт совершила опасную поездку в Упсалу в самую распутицу, чтобы дать ему возможность попросить у нее прощения. Неужто он, духовный пастырь, выкажет менее кротости, нежели простая смертная?
Карл-Артур не вдруг понял, куда она клонит. Он стоял, глядя на нее в недоумении.
Тогда фру Сундлер сказала, что на сей раз милая тетушка Экенстедт сама провинилась перед ним. И если она столь справедлива, как он утверждает, то, без сомнения, уже раскаялась в своем поступке и всей душой жаждет просить у него прощения. Но коль скоро она нездорова и не может приехать к нему, стало быть, его долг отправиться к ней.
То было дело иное, совсем не то, что ему предлагала Шарлотта. Тут речь шла не о том, чтобы вернуться в родительский дом блудным сыном, а о том, чтобы войти в него победителем. Теперь он поедет не для того, чтобы испрашивать милостивого прощения, а чтобы простить самому. Невозможно описать, как это обрадовало его, как благодарен он был Tee, которая навела его на эту мысль.
После воскресной службы он наскоро отобедал у органиста и немедля отправился в Карлстад. Он так спешил, что ехал без остановки всю ночь. Мысль о том, какая это будет трогательная сцена, когда они встретятся с матушкой, не давала ему уснуть. Никто не сумел бы сделать подобную встречу столь прекрасной, как она.
Он прибыл в Карлстад в пять часов утра, но не поехал прямо домой, а завернул на постоялый двор. В расположении к нему матушки он ничуть не сомневался, но в отце уверен не был. Могло случиться, что отец не впустит его в дом, а ему не хотелось срамиться перед кучером.
Хозяин постоялого двора, стоявший на крыльце, старый житель Карлстада, увидев подъезжающего Карла-Артура, тотчас же признал его. До него дошли кое-какие толки о разрыве молодого пастора с родителями из-за того, что тот задумал жениться на простой далекарлийской крестьянке. Он заговорил с Карлом-Артуром деликатно и участливо, но тот казался спокойным и довольным, отвечал весело, и хозяин решил, что слухи о ссоре были пустыми.
Карл-Артур потребовал комнату, смыл с себя дорожную пыль и тщательнейшим образом привел в порядок свой туалет. Когда он снова вышел на улицу, на нем был пасторский сюртук с белыми брыжами и высокая черная шляпа. Он надел пасторское облачение, дабы показать матушке, в каком кротком и благостном расположении духа он явился к ней.
Хозяин постоялого двора спросил, не желает ли он позавтракать, но он отказался. Ему не хотелось отдалять счастливое мгновение, когда они с матушкой заключат друг друга в объятия.
Он быстрым шагом пошел по улице к берегу реки Кларэльв. Душу его наполняло столь же тревожное и радостное ожидание, какое он испытывал в ту пору, когда был студентом и приезжал домой из Упсалы на вакации.
Вдруг он резко остановился, пораженный, будто кто-то ударил его прямо в лицо. Он уже подошел довольно близко к дому Экенстедтов и увидел, что дом на замке, все ставни закрыты, а двери заперты.
В первое мгновение он было растерялся: ему пришло на ум, что хозяин постоялого двора уведомил родителей о его приезде и они заперли дом, чтобы не впускать его. Он вспыхнул от досады и уже повернулся, чтобы идти прочь.
Но тут же он стал смеяться над самим собой. Ведь еще не было шести часов, а дом в утреннюю пору всегда бывал заперт. Не смешно ли было полагать, будто ставни и двери затворили нарочно, чтобы не впускать его. Он снова подошел к садовой калитке, толкнул ее и уселся в саду на скамейке, чтобы дождаться, когда дома проснутся.
И все же он не мог отделаться от мысли, что это дурное предзнаменование, если родительский дом был заперт в момент его прихода.
Он уже более не испытывал радости. Тревожное ожидание, не дававшее ему уснуть всю ночь, тоже исчезло.
Он сидел и смотрел на затейливые цветочные клумбы и великолепные газоны, на большой и красивый дом. Потом он стал думать о той, которая владела всем этим, всеми почитаемая и превозносимая, и сказал самому себе, что нет никакой надежды на то, что она станет просить у него прощения. Вскоре он уже не мог понять ни Тею, ни себя самого. В Корсчюрке ему казалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что полковница раскаялась, но теперь он понял, что это чистейший вздор.
Он так уверился в этом, что решил тут же отправиться восвояси, и уже поднялся, чтобы уйти. Надобно было спешить, покуда никто его не заметил.
Уже стоя у калитки, он подумал, что, наверно, видит этот дом в последний раз. Ведь сейчас он уйдет, чтобы никогда более не возвращаться.
Он оставил калитку полуоткрытой и обернулся, собираясь в последний раз обойти усадьбу и проститься с ней. Он завернул за угол дома и очутился среди высоких ветвистых деревьев на берегу реки. Этот прекрасный вид открывался ему в последний раз. Он долго смотрел на лодку, вытащенную на берег. Он думал, что теперь, когда его здесь нет, она уже больше никому не нужна, однако заметил, что лодка просмолена и покрашена точно так же, как в те времена, когда он, бывало, катался на ней.
Он поспешил взглянуть на маленький огородик, за которым ухаживал в детстве. Там росли те же самые овощи, которые он выращивал. И он понял, что о том пеклась матушка. Это она велела следить за тем, чтоб он не пришел в запустение. Прошло не менее пятнадцати лет с тех пор, как он занимался им.
Он принялся искать падалицу под антоновкой и сунул яблоко в карман, хотя оно было зеленое, как молодая капуста, и такое твердое, что не укусишь. Потом он отведал крыжовника и смородины, хотя ягоды были засохшие и перезрелые.
Он прошел вдоль пристроек и отыскал сарай садовника: прежде там у него стояли маленькая лопатка, грабельки и тачка. Он заглянул внутрь: да, нечего было и гадать, они были на том же самом месте, где он их оставил. Никому не позволили их убрать.
Время шло, надобно было спешить, если он желал уйти незамеченным. Но ему так хотелось взглянуть на все в последний раз. Все здесь приобрело для него новое значение. «Я не знал, как мне дорого это», — думал он.
И в то же время он стыдился своего ребячества. Ему бы не хотелось, чтоб его сейчас увидела Тея Сундлер: ведь несколько дней назад она так восхищалась его смелыми речами, когда он говорил, что навсегда освободился от уз отчего дома и воли родительской.
И тут у него возникло подозрение, что он медлит сейчас, втайне надеясь, что кто-нибудь увидит его и впустит в дом. И когда он окончательно уверился в этом, он тотчас же решился пойти прочь.
Он уже вышел было из сада и остановился у калитки, как вдруг услыхал, что в запертом доме отворилось окно.
Невозможно было не обернуться, и он обернулся. Окно в спальне полковницы было распахнуто настежь. Его сестра Жакетта, высунувшись из окна, вдыхала свежий воздух.
Не прошло и секунды, как она увидела его и принялась кивать ему и махать рукой. Он невольно стал ей отвечать: тоже кивал и махал рукой. Потом он показал на запертую дверь. Жакетта исчезла, а через минуту он услышал, как заскрипела задвижка и повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась, сестра вышла на порог и протянула к нему руки.
В этот миг он стыдился Теи, стыдился самого себя, ибо не верил, что матушка станет просить у него прощения. Ему нечего было делать в этом доме, однако он против воли своей побежал навстречу Жакетте. Он взял ее за руки и притянул к себе, на глазах у него выступили слезы — так рад был он, что она отперла ему дверь.