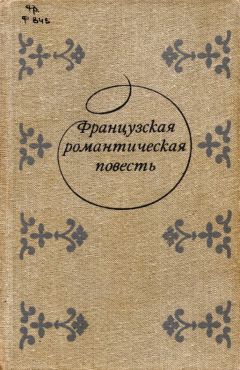Предисловие к третьему изданию
Не без колебаний согласился я вновь напечатать это небольшое сочинение, впервые изданное десять лет назад. Не будь я почти уверен в том, что его намереваются без моего согласия издать в Бельгии и что в этой подделке, как и в большинстве такого рода бельгийских изданий, распространяемых в Германии и ввозимых во Францию, окажутся добавления и вставки, к которым я буду непричастен, я никогда не занялся бы вновь этой повестью, написанной с единственной целью убедить двух-трех друзей, собравшихся в деревне, что можно придать некоторую увлекательность роману, где всего два действующих лица и где ситуация остается неизменной.
Однажды взявшись за эту работу, я захотел развить некоторые другие мысли, пришедшие мне в голову и показавшиеся мне не совсем бесполезными. Я решил изобразить страдания, порождаемые в сердцах даже самых черствых людей теми горестями, которые они причиняют, и заблуждение, заставляющее их считать себя более ветреными или более развращенными, нежели они есть. С течением времени образ печали, нами вызванной, становится смутным и неясным, подобно облаку, сквозь которое легко пройти; нас поощряет одобрение общества, насквозь лицемерного, заменяющего принципы бездушными правилами, а чувства — благопристойностью и ненавидящего всяческий скандал не за его безнравственность, а за его неудобства, — ведь оно довольно снисходительно к пороку, если ему не сопутствует огласка; нам кажется нетрудным расторгнуть узы, которые мы наложили на себя необдуманно. Но когда мы видим скорбь, проистекающую из такого разрыва, видим горестное изумление обманутой души, видим, как на смену прежнему безраздельному доверию приходит недоверие, которое, поневоле обратись против существа, казавшегося единственным в мире, отныне распространяется на весь мир, видим отвергнутое преклонение, не знающее теперь, на что ему излиться, тогда мы чувствуем — есть нечто священное в сердце, страдающем потому, что любит; тогда нам становится ясно, сколь глубоки корни привязанности, которую, мнилось нам, мы внушали, но не разделяли; и если нам удается превозмочь то, что мы называем слабостью, — мы достигаем этого, лишь разрушая все, что в нас есть великодушного, попирая в себе всю верность, на какую мы способны, жертвуя всем, что в нас есть благородного и доброго. Из этой победы, которой рукоплещут равнодушные и друзья, мы выходим, умертвив часть своей души, отбросив сострадание, надругавшись над слабостью, оскорбив нравственность тем, что взяли ее предлогом для жестокости; и, пристыженные или развращенные этим жалким успехом, мы продолжаем жить, утратив лучшую часть своего существа.
Такова картина, которую я хотел нарисовать в «Адольфе». Не знаю, удалось ли это; но в моем рассказе, думается мне, есть по меньшей мере доля истины, ибо все те читатели, с которыми я встречался, говорили мне, что сами находились в положении моего героя. Правда, в раскаянии, которое они выражали по поводу причиненных ими горестей, сквозило какое-то тщеславное удовлетворение; им нравилось уверять, будто в прошлом, подобно Адольфу, их преследовали столь же сильные привязанности, ими внушенные, будто и они стали жертвами той великой любви, которую к ним питали. Я полагаю, что в большинстве случаев они клеветали на себя и что, если бы их не донимало тщеславие, совесть у них могла бы быть спокойна.
Как бы там ни было, все относящееся к «Адольфу» стало для меня весьма безразлично; я не придаю этому роману никакого значения, и повторяю — моим единственным побуждением, когда я решился вновь представить его публике, по всей вероятности забывшей его, если она вообще когда-либо его знала, было объявить, что всякое издание, текст которого не совпадает с данным текстом, исходит не от меня и я за него не отвечаю.
Несколько лет назад я путешествовал по Италии. Разлив реки Нето задержал меня в калабрийской деревне Черенца. Я остановился в гостинице, где нашел другого иностранца, застрявшего там по той же причине. Он был очень молчалив и казался грустным, он не выражал ни малейшего нетерпения. Ему, единственному, с кем я мог беседовать в этом захолустье, я иногда жаловался на задержку в пути. «Мне все равно, — отвечал он, — здесь ли я нахожусь или в другом месте». Хозяин гостиницы, разговаривавший с лакеем-неаполитанцем, который служил у этого приезжего, но не знал его имени, сказал мне, что незнакомец путешествует не из любопытства, ибо его не занимают ни развалины, ни достопримечательные места, ни памятники, ни люди. Он много читал, но беспорядочно; по вечерам он ходил гулять, всегда в одиночестве, и порою целыми днями сидел неподвижно, подперев голову руками.
Когда сообщение возобновилось и мы могли уехать, незнакомец опасно заболел. Человеколюбие обязывало меня продлить свое пребывание, чтобы ухаживать за ним. В Черенце имелся только деревенский фельдшер; я хотел было послать в Козенцу за врачом более сведущим. «Не стоит труда, — сказал мне незнакомец, — это именно тот человек, который мне нужен». Он был прав, возможно, даже более, чем думал, ибо этот человек вылечил его. «Я не предполагал, что вы так искусны», — досадливо сказал незнакомец, прощаясь с ним; затем он поблагодарил меня за мои заботы и отбыл.
Спустя несколько месяцев я в Неаполе получил от хозяина той гостиницы письмо и шкатулку, найденную по дороге в Стронголи; оба мы, незнакомец и я, ехали этой дорогой, но порознь. Приславший шкатулку трактирщик не сомневался в том, что она принадлежит одному из нас. В ней было множество старых писем, без адресов или со стертыми адресами и подписями, портрет женщины и тетрадь, содержавшая тот рассказ, или эпизод, который здесь приведен. Уезжая, иностранец, которому принадлежали эти вещи, не указал мне никакого способа снестись с ним: я хранил их в течение десяти лет, не зная, что с ними делать, и как-то раз, в одном немецком городе, случайно упомянул о них в беседе со знакомыми. Один из присутствующих настоятельно просил меня доверить ему рукопись, хранителем которой я себя считал. Спустя неделю мне вернули рукопись, приложив к ней письмо, которое я поместил в самом конце этой повести, потому что оно было бы непонятно, если бы его прочли, не ознакомившись с ней.
Это письмо и побудило меня напечатать данную повесть, так как я проникся уверенностью, что она никого не может оскорбить и никому не повредит. Я не изменил в подлиннике ни одного слова; даже сокрытие собственных имен исходит не от меня: они, как и здесь, были обозначены одними заглавными буквами.
Адольф
Рукопись, найденная в бумагах неизвестного
В двадцать два года я закончил курс наук в Геттингенском университете. Мой отец, министр курфюрста X., хотел, чтобы я объездил наиболее примечательные страны Европы. Затем он намеревался призвать меня к себе, определить на службу в ведомство, которое возглавлял, и подготовить к тому, чтобы я впоследствии мог заменить его.
Ведя жизнь весьма рассеянную, я все же довольно упорным трудом достиг успехов, благодаря которым выделился среди моих товарищей по занятиям и возбудил в отце моем надежды, по всей вероятности, сильно преувеличенные.
Эти надежды внушили ему крайнюю снисходительность к моей ветрености. Он никогда не давал мне страдать от ее последствий; он всегда исполнял, а иной раз и предупреждал те мои просьбы, которые были с ней связаны.
К несчастью, в его отношении ко мне было больше благородства и великодушия, чем нежности. Я сознавал, что он имеет все права на признательность и уважение с моей стороны, но между нами никогда не существовало душевной близости. В его уме было нечто насмешливое, не соответствовавшее моему характеру. В ту пору я жаждал лишь одного — отдаваться тем непосредственным сильным впечатлениям, которые возвышают душу над обыденностью и вселяют в нее пренебрежение к предметам, ее окружающим. В отце я находил не сурового наставника, но холодного, язвительного наблюдателя, который покровительственно улыбался в начале разговора — и вслед за тем нетерпеливо обрывал его. Я не припомню за первые восемнадцать лет моей жизни ни одной беседы с ним, которая длилась хотя бы час. Его письма были ласковы, полны разумных, сердечных советов; но как только мы встречались друг с другом, в его обращении со мной сказывалась какая-то непонятная мне принужденность, весьма тягостно на меня действовавшая. Я тогда не знал, что застенчивость — это душевный недуг, который преследует нас до самых преклонных лет, заставляет таить в себе самые глубокие впечатления, леденит наши речи, искажает в устах наших все, что мы пытаемся высказать, и позволяет нам изъясняться лишь туманно или с иронией более или менее горькой, как будто мы на своих же чувствах хотим выместить ту боль, которую нам причиняет невозможность их выразить. Я не догадывался, что мой отец был застенчив даже с собственным сыном и что нередко, не дождавшись от меня изъявлений нежности, которым препятствовала его внешняя холодность, он покидал меня со слезами на глазах и жаловался другим, что я его не люблю.