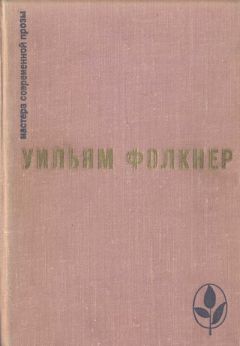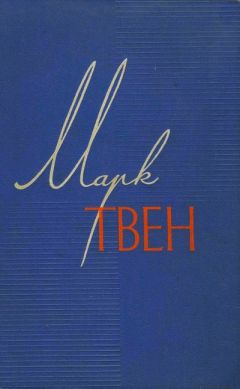Потом янки как заорет на него, но полковник, но оглядываясь, шагает вперед, и все тут. Тогда янки заорал снова, и полковник говорит, что услышал, как шевелится лошадь, и решил, что пора улепетывать. Он завернул за угол конюшни, и тут янки первый раз в него выстрелил, а когда янки добрался до угла, он был уже в свином загоне и бежал сквозь заросли дурмана к речке, где вы в ивняке с жеребцом спрятались и его поджидали.
И вот этот патрульный янки улюлюкал где-то сзади, а вы стояли и держали лошадь, пока полковник сапоги надевал. И тогда он велел вам передать тетушке, чтоб она не ждала его к ужину.
— Но зачем же ты принес мне ее через столько лет? — спросил он тогда, поглаживая трубку, и старик Фолз ответил, что в богадельне для нее не место.
— Ведь он эту трубку в те времена в кармане носил, и она его радовала. Когда он железную дорогу строил, тогда, сдается мне, все было иначе. В те времена он частенько повторял, что к субботнему вечеру мы и оглянуться не успеем, как все в богадельне очутимся. Только тут я его обскакал. Я попал туда раньше его. А может, он вовсе про кладбище думал, когда днем и ночью объезжал стройку с мешком денег, притороченным к седлу, и говорил, что до богадельни всего-навсего одна шпала остается. Вот когда все пошло по-другому. Когда он начал людей убивать. Сперва тех двух карпетбеггеров, что негров мутили, — вошел прямо в комнату, где они сидели за столом, а пистолеты ихние на столе лежали, а после еще того разбойника и второго парня — всех из своего дьявольского дерринджера застрелил. Когда человек начинает людей убивать, ему почти всегда приходится убивать их все больше и больше. А когда он убивает, он уже и сам покойник.
Тогда-то на чело Джона Сарториса опустилась зловещая тень обреченности и рока — в тот вечер, когда он сидел в столовой под свечами и, беседуя с сыном, вертел в руке бокал. Железная дорога была уже построена, и в этот день после долгой и жестокой борьбы он был избран в законодательное собрание штата, и печать обреченности легла на его чело и смертная усталость.
«Итак, — сказал он, — завтра Редлоу убьет меня, потому что я буду безоружен. Я устал убивать людей… Передай мне вино, Баярд».
И на следующий день он был мертв, и тогда — словно он только и ждал смерти, чтобы вырваться из нелепой мешанины костей и духа, — освободившись из тенет своей немощной плоти, он мог наконец отлить в прочную форму то, что каким-то образом обрело роковое сходство с его мечтой: словно призрак или некое божество, его могли снова вызвать к жизни тягучие воспоминания безграмотного старика или обугленная трубка, из которой давным-давно выветрился даже терпкий запах сгоревшего табака.
Старый Баярд встрепенулся и, подойдя к комоду, положил на него трубку. Потом он вышел из комнаты, тяжело протопал вниз по лестнице и спустился с заднего крыльца.
Юноша-негр тотчас проснулся, отвязал кобылу и придержал стремя. Старый Баярд вскарабкался в седло, вспомнил наконец про сигару и раскурил ее. Негр открыл ворота во двор, обогнал всадника, открыл вторые ворота и выпустил его в поле. Баярд поехал вперед, сопровождаемый струйкой горького сигарного дыма. Вскоре откуда-то выскочил пятнистый сеттер и пустился вслед за кобылой.
Элнора, стоя босиком на кухонном полу, окунула в ведро швабру и снова шлепнула ею по полу.
Грешник встал со скамьи стенаний,
Грешник залез на скамью покаяний.
Пастырь спросил: ну, покаялся, брат?
А тот: «Ты блудливей меня во сто крат».
О, боже, боже!
Вот что с церковью стало теперь!
2
Саймон держал путь к огромному кирпичному дому, расположенному почти вплотную к улице. На этом участке, окруженный дубами, магнолиями и цветущим кустарником, некогда стоял роскошный старинный особняк в колониальном стиле. Но особняк сгорел, а часть деревьев срубили, чтобы расчистить место для архитектурного чудовища, до такой степени устрашающе импозантного, что оно даже имело величественный вид. Это был памятник бережливости одного жителя холмов, а также усыпальница общественных амбиций женской половины его семейства. Он переехал сюда из небольшого поселка, называемого Французова Балка, и, по словам мисс Дженни Дю Пре, построил самый красивый дом во Французовой Балке на самом прекрасном участке в Джефферсоне. Жителя холмов хватило всего на два года, в продолжение которых его женщины каждое утро восседали на веранде в кружевных чепцах, а после обеда, разодевшись в пестрые шелка, катались по городу в кабриолете на резиновом ходу; потом житель холмов продал свой дом человеку, который незадолго до того приехал в город, увез своих женщин обратно в деревню и, без сомнения, заставил их снова работать.
Несколько автомобилей, поставленных вдоль тротуара, придавали усадьбе парадный вид, и Саймон с торчащим в зубах окурком сигары подкатил в дому, натянул поводья и вступил в краткую, но выразительную перепалку с негром, сидевшим за рулем автомобиля, который стоял возле самой коновязи.
— Смотри у меня, черномазый, ты сарторисовскому выезду дорогу не загораживай, — закончил свою речь Саймон, когда шофер отвел свой автомобиль и дал ему возможность подъехать к коновязи. — Простому народу можешь дорогу загораживать сколько твоей душеньке угодно, а уж карете полковника или мисс Дженни ты, братец, лучше не мешай. Они этого не потерпят.
Он слез с козел и привязал лошадей. Довольный сделанным выговором и ликуя оттого, что ему удалось настоять на своем, Саймон умолк, а затем, рассматривая автомобиль с любопытством и некоторой долей высокомерия, слегка окрашенного почтительной завистью, завел светскую беседу с шофером. Однако ненадолго, ибо на кухне этого дома у Саймона имелись сестры во Христе, и вскоре он вышел во двор, по усыпанной гравием дорожке обогнул дом и направился к заднему крыльцу. Когда он проходил под окнами, до него донесся шум вечеринки — бесконечное нечленораздельное щебетанье, которому способны неустанно предаваться белые дамы и которое они, очевидно, считают непременным (или неизбежным) атрибутом приятного времяпрепровождения. То обстоятельство, что на вечеринке играли в карты, не показалось Саймону ни парадоксальным, ни странным, ибо время и многолетний богатый опыт приучили его снисходительно относиться к причудам белых, а также дам любого цвета кожи.
Житель холмов построил свой дом так близко к улице, что большая часть прежней лужайки и росших на ней прекрасных старых деревьев оказалась на заднем дворе. Прежде здесь были в беспорядке разбросаны лагерстремии, чубушник, кусты сирени и жасмина, а заборы и деревья оплетала жимолость, но после того как первый дом сгорел, кусты буйно разрослись и превратили запущенный сад в непролазные ароматные джунгли — их облюбовали дрозды и пересмешники, а весенними и летними вечерами здесь допоздна засиживались юноши и девушки, любуясь летающими светлячками и слушая хор козодоев и мелодичные тремоло ушастой совы. Потом житель холмов купил этот участок, разредил сад, чтобы, по деревенскому обычаю, построить свой дом вплотную к улице, расчистил джунгли, побелил известью оставшиеся деревья, а между их призрачными стволами возвел заборы вокруг конюшни, птичника и свинарника. Он прожил здесь недолго и потому не успел узнать о существовании гаражей.
От стерильного запустения времен его владычества теперь почти ничего не осталось; новый хозяин участка насадил еще больше кустов — жасмина, чубушника и вербены, расставил под ними зеленые металлические столики со стульями, вырыл пруд и устроил теннисный корт.
Саймон скромно, но уверенно прошагал по саду, и лишенная согласных струя женской болтовни внесла его на кухню, где тощая женщина в траурном фиолетовом тюрбане подносила ко рту густо намазанный майонезом кусочек печенья, а вторая, огромная как гора, в грязном фартуке, выдававшем ее ремесло, прихлебывала с блюдечка растаявшее мороженое, и обе уставились на него во все глаза.
— Я его на улице встретила, и уж так он плохо вы глядит, совсем на себя не похож, — говорила гостья, но при появлении Саймона женщины прервали свой раз говор и радушно его приветствовали.
— Да неужто это братец Строзер! — хором воскликнули они. — Проходите, пожалуйста, братец Строзер. Как вы поживаете?
— Плохо, дамочки, плохо, — отвечал Саймон. Он снял шляпу, отлепил от губы окурок сигары и запрятал его в шляпу. — Очень у меня в спину стреляет. А вы, надеюсь, здоровы?
— Здоровы, братец Строзер, спасибо, — отозвалась гостья.
По приглашению хозяйки Саймон подвинул стул к столу.
— Что будете кушать, братец Строзер? — гостеприимно осведомилась хозяйка. — Есть гарнир, что гости не доели, немного холодного шпината да еще вот остатки мороженого.
— Я, пожалуй, съем немножко мороженого да шпината, сестрица Рейчел, — отвечал Саймон. — А парадные обеды мне уже нынче не по зубам.