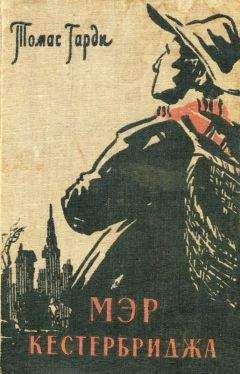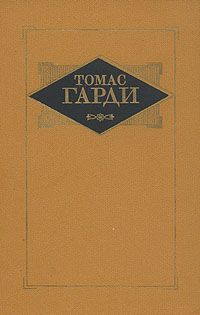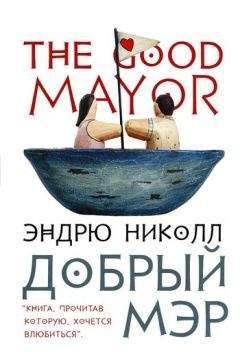Миссис Хенчард замялась и ответила нерешительно:
— Безусловно не видел, Элизабет-Джейн. Но пойдем-ка вон туда.
Она направилась в дальний конец ярмарочного поля.
— Мне кажется, нет никакого смысла расспрашивать здесь о ком-либо, — заметила дочь, озираясь вокруг. — Народ на ярмарках меняется, как листва на деревьях. И, кроме вас, здесь едва ли найдется сегодня хоть один человек, который был на ярмарке тогда.
— Я в этом не совсем уверена, — возразила миссис Ньюсон (так она теперь звалась), пристально рассматривая что-то вдали, у зеленой насыпи. — Погляди-ка туда.
Дочь посмотрела в ту сторону. Предмет, обративший на себя внимание матери, оказался треножником из воткнутых в землю палок, на котором висел котел, подогреваемый снизу тлеющими дровами. Над котлом, наклонившись, стояла старуха, изможденная, сморщенная и чуть ли не в рубище. Она размешивала большой ложкой содержимое котла и по временам каркала сиплым голосом: «Здесь продают хорошую пшеничную кашу!»
В самом деле, это была хозяйка палатки с пшеничной кашей. Когда-то она преуспевала, была опрятной, носила белый передник, позвякивала деньгами, а теперь лишилась палатки, стала грязной, не было у нее ни столов, ни скамей, ни покупателей, если не считать двух белобрысых загорелых мальчуганов, которые подошли и попросили: «Дайте полпорции — да пополней наливайте!», что она и сделала, подав им две щербатые желтые миски из самой простой глины.
— Это она была здесь в тот раз, — проговорила миссис Ньюсон, направляясь к старухе.
— Не заговаривайте с ней — это неприлично! — остановила ее дочь.
— Я только одно словечко скажу. Ты можешь подождать здесь.
Девушка не стала возражать и пошла к ларькам с цветными ситцами, а мать продолжала свой путь. Едва завидев ее, старуха стала зазывать покупательницу, а просьбу миссис Хенчард-Ньюсон дать на пенни каши удовлетворила с большим проворством, чем в свое время, когда отпускала каши на шесть пенсов. Когда soi-disant[5] вдова взяла миску жидкой невкусной похлебки, заменившей густую кашу былых времен, старая ведьма открыла корзинку, стоявшую за костром, и, бросив на покупательницу лукавый взгляд, прошептала:
— А как насчет капельки рома?.. Из-под полы ведь… ну, на два пенса… зато кашу проглотите — облизнетесь.
Покупательница горько улыбнулась, вспомнив эту старую уловку, и качнула головой с таким видом, значения которого старуха не поняла. Взяв предложенную ей оловянную ложку, миссис Ньюсон ковырнула кашу и, сделав вид, что ест, вкрадчиво сказала старой карге:
— Вы, верно, знавали лучшие дни?
— Ах, сударыня, что и говорить! — отозвалась старуха, немедленно открывая шлюзы своего сердца. — Я стою на этой ярмарочной площади вот уже тридцать девять лет— стояла девушкой, женой и вдовой и успела узнать, что значит иметь дело с самыми привередливыми желудками в округе. Сударыня, вряд ли вы поверите, что когда-то у меня была своя палатка-шатер, настоящая приманка на ярмарке. Никто сюда не приходил, никто отсюда не уходил, не отведав пшеничной каши миссис Гудноф. Я умела угодить и духовным особам и городским франтам, умела угодить и городу и деревне, даже грубым, бесстыдным девкам. Но будь я проклята, люди ничего не ценят! Честная торговля не приносит барышей — в нынешние времена богатеют только хитрецы да обманщики!
Миссис Ньюсон оглянулась — ее дочь замешкалась у дальних ларьков.
— А не припоминаете ли вы, — осторожно спросила она старуху, — как в вашей палатке ровно восемнадцать лет назад муж продал свою жену?
Карга призадумалась и качнула головой.
— Если бы вокруг этого дела поднялся шум, я б сию же минуту вспомнила, — сказала она. — Я помню каждую супружескую драку, каждое убийство, умышленное и случайное, даже каждую карманную кражу — по крайней мере крупную, — какие мне довелось видеть своими глазами. Но продажа жены? Это было сделано потихоньку?
— Да, пожалуй. Кажется, так.
Торговка пшеничной кашей снова качнула головой.
— Погодите… Погодите! Вспомнила! — сказала она. — Во всяком случае, я припоминаю человека, который сделал что-то в этом роде, он был в куртке и тащил корзину с инструментами. Но мы таких вещей в памяти не держим. А этого человека я не забыла только потому, что на следующий год он снова был здесь на ярмарке и сказал мне вроде бы по секрету: если какая-нибудь женщина будет спрашивать о нем, я должна сказать, что он отправился… куда же это?.. да, в Кестербридж… верно, он сказал — в Кестербридж! Но, ей-богу, я и думать об этом забыла!
Миссис Ньюсон вознаградила бы старуху в меру своих скудных средств, если бы не помнила, что ром, влитый в кашу этой не слишком совестливой особой, был причиной падения ее мужа. Она коротко поблагодарила свою собеседницу и присоединилась к Элизабет, которая встретила ее словами:
— Мама, пойдемте дальше… вряд ли прилично было вам там закусывать. Я вижу, что этого никто не делает, кроме людей самого низкого сорта.
— Зато я узнала, что хотела узнать, — спокойно ответила мать. — Когда наш родственник был в последний раз на этой ярмарке, он сказал, что живет в Кестербридже. Это далеко-далеко отсюда, и сказал он так много лет назад, но, пожалуй, мы пойдем туда.
И, покинув ярмарку, они направились к деревне, где получили пристанище на ночь.
Жена Хенчарда действовала с наилучшими намерениями, но очутилась в затруднительном положении. Сотни раз собиралась она рассказать своей дочери, Элизабет-Джейн, правдивую историю своей жизни, трагическим моментом которой явилась сделка на Уэйдонской ярмарке, когда она была немногим старше девушки, шедшей теперь с нею. Но она не решалась. Таким образом, девочка, ничего не ведая, росла в уверенности, что отношения между веселым моряком и ее матерью были самыми обыкновенными, какими они и казались. Угроза подорвать привязанность к нему девочки, заронив в ее головку смущающие мысли, угроза, возраставшая вместе с ростом ребенка, представлялась миссис Хенчард слишком большим риском, чтобы она могла на него пойти. И она считала безумием открыть Элизабет-Джейн правду.
Но боязнь Сьюзен Хенчард, что исповедь лишит ее привязанности горячо любимой дочери, не имела отношения к сознанию собственной вины. Благодаря своей простоте, послужившей в свое время основанием для презрения Хенчарда, она жила в убеждении, что Ньюсон, купив ее, приобрел на нее морально оправданные и вполне реальные права, хотя смысл и законные границы этих прав она не вполне ясно себе представляла. Уму искушенному покажется, пожалуй, странным, что здравомыслящая молодая женщина могла поверить в серьезность такой сделки; и не будь других многочисленных примеров подобной убежденности, в этом можно было бы усомниться. Но миссис Хенчард была отнюдь не первой и не последней деревенской женщиной, почитавшей себя связанной по правилам церкви со своим покупателем, о чем имеется немало рассказов деревенских жителей.
Историю жизни Сьюзен Хенчард за этот период можно рассказать в двух-трех фразах. Совершенно беспомощная, она была увезена в Канаду, где семейство прожило несколько лет, не добившись сколько-нибудь значительных успехов на жизненном поприще, хотя она работала не покладая рук, чтобы в домике у них был уют и достаток. Когда Элизабет-Джейн было лет двенадцать, все трое вернулись в Англию и поселились в Фальмуте, где Ньюсон несколько лет служил лодочником и выполнял разные работы на берегу.
Затем он нанялся на торговое судно, ходившее в Ньюфаундленд, — в эту пору Сьюзен и прозрела. Она рассказала свою историю приятельнице, а та высмеяла ее покорность, и душевному покою Сьюзен пришел конец. Когда Ньюсон в конце зимы вернулся домой, он увидел, что заблуждение, которое он так старательно поддерживал, исчезло навсегда.
Настали дни мрачного уныний, и в один из таких дней она поведала ему свои сомнения: не может она дальше с ним жить. Вскоре Ньюсон ушел в очередной рейс в Ньюфаундленд. А немного спустя весть о его гибели разрешила проблему, превратившуюся в пытку для уязвимой совести Сьюзен. Моряк навсегда ушел из ее жизни.
О Хенчарде она ничего не знала. Для вассалов Труда Англия тех дней была континентом, а миля — географическим градусом.
Элизабет-Джейн рано развилась физически. Однажды, примерно через месяц после получения известия о смерти Ньюсона у берегов Ньюфаундленда, когда девушке было лет восемнадцать, она сидела на плетеном стуле в домике, где они все еще жили, и плела рыбачьи сети. Мать ее в дальнем углу комнаты занималась той же работой. Опустив большую деревянную иглу, в которую она вдевала бечевку, мать задумчиво смотрела на дочь. Солнце, проникая в дверь, освещало голову молодой девушки, и лучи его, словно попав в непроходимую чашу, терялись в густой массе ее распущенных каштановых волос. Ее лицо, довольно бесцветное и не вполне сформировавшееся, обещало стать красивым. В нем была скрытая прелесть, еще не нашедшая выражения в изменчивых, незрелых чертах, сейчас несколько обезображенных трудными условиями жизни. Красив был костяк, но не плоть. А быть может, ей и не суждено было стать красивой — ведь надо выбраться из тяжелой жизни, прежде чем лицо примет окончательный облик.