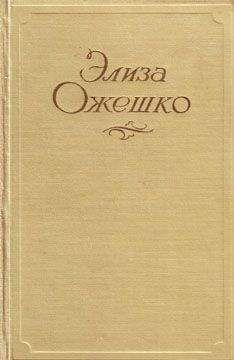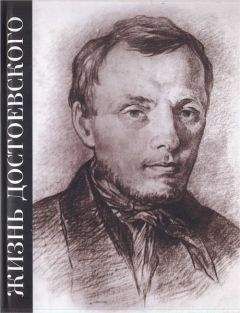Но вот на столе появилась коврига черного хлеба и миска дымящейся похлебки с салом. Антось принес из чулана хлеб и большой нож с деревянным черенком, а Кристина, перелив похлебку из горшка в миску, поставила ее на стол. Положив возле миски четыре деревянные ложки, она скрестила под грудью руки и, словно окаменев, пытливо глядела в лицо Миколая. Ясюк нарезал хлеба, Антось с ложкой в руке нетерпеливо ждал, чтобы старшие подали знак приступать к еде. Кристина же все стояла, пристально глядя на отставного солдата. Тот засмеялся.
— Что с тобой, Кристина? — шутливо опросил он. — Ты чего уставилась на меня, точно в первый раз увидала?
Не сводя с него глаз, она медленно и задумчиво проговорила:
— Не в первый раз я тебя вижу, Миколай… Не чужой ты мне, так же как и Ясюку. Ты из Грынок, и я из Грынок, все мы из Грынок, только я бедной сиротой была, и никто меня никогда не пожалел. Так сжалься хоть ты надо мной, Миколай… Помоги, спаси. Слушала я, слушала, — что ты говорил Ясюку. Если тот большой адвокат ему помочь может, значит и мне может… если он всех спасает — значит, и моего Пилипчика спасет…
Она замолчала; выражение глаз ее из пытливого стало молящим. Мужчины уже ели похлебку. Миколай, немного поломавшись, также принялся за еду. Сидя очень прямо, он медленно подносил ложку ко рту и, проглотив еду, пахнувшую прогорклой приправой, всякий раз тыльной стороной левой руки вытирал рот и усы. Поглядывая на Кристину, он жалостливо покачивал головой.
— Ох, и беда же с твоим Пилипком! — сказал он. — И так уж нелегко молодому солдатику, когда его от материнской юбки оторвут да в строй поставят. «Равняйсь! На плечо! К ноге! Направо! Налево! Кругом марш!» А тут, помилуй господь, он ногу не так, как надо, поставил… подскакивает фельдфебель и кулаком в зубы…
Слова муштры Миколай выкрикивал грубым голосом, сдвигая брови, и энергичным жестом поднимал к голове ложку, с которой стекала похлебка. Как только он принимался кричать со строгим видом, Кристина начинала быстро мигать и морщины у нее на лбу болезненно вздрагивали. Антось замирал с ложкой у рта и, глядя своими наивными глазами на солдата, тихонько вскрикивал:
— О господи!
— Тяжела, тяжела жизнь молодого солдатика, — продолжал отставной солдат, — но там, куда посылают твоего Пилипка, еще хуже будет… Я там был и знаю. От мороза у меня кожа слезала и в животе застывало. Что проглотишь — так все в чистый лед и обращается. В лазарет меня клали… шесть месяцев желтой лихорадкой болел и таким желтым стал, ну прямо подсолнух… а вышел оттуда… родная мать бы не узнала… Так и с Пилипком твоим будет, Кристина, а может… еще хуже; я-то крепкий и здоровый был, так еще выдержал, а как он щупленький, то и не выдержит… ей-богу, не выдержит!
Кристина, принявшись было за еду, застыла с ложкой в руке, а лицо ее окаменело от ужаса. Внезапно, застонав, она бросила ложку и обеими руками схватилась за голову. Она закачалась из стороны в сторону, склоняясь до самой скамьи, и заголосила:
— Боже ж мой, боже! Боже ж мой, боже!
Антось перестал есть. Стоя над горюющей матерью, он повторял:
— Годзи, мама! Годзи! Годзи!
Он не прикасался к ней и ничего больше не говорил, кроме этих слов, которые он повторял все настойчивее и жалостнее.
— Годзи! — грубо сказали Ясюк и Миколай, а Миколай добавил:
— Эх, глупая, глупая баба! Чего ты стонешь и плачешь и понапрасну к господу богу взываешь? Господь бог послал тебе счастье. Такого послал тебе пана, что спасет твоего Пилипка. Ты только меня попроси, чтоб я тебя порекомендовал. А стоит ему только захотеть, и твоего Пилипка оставят поблизости, ей-богу оставят и, может, даже на зимние квартиры в Грынки пришлют…
Кристина вскочила, точно ее приподняла чья-то крепкая рука, выпрямилась и в мгновение ока приникла к Миколаю.
— Отец милостивый, братец родненький, порекомендуйте меня и помогите упросить того пана.
Говоря это, она целовала локоть отставного солдата, и казалось, вот-вот начнет целовать его колени.
— Ну, ладно! — воскликнул Миколай, и в его серых глазах блеснул огонек. — Но, — добавил он, — пять процентов заплатить надо, без этого нельзя… пять процентов. Ну, ежели, баба, у тебя есть деньги…
— Есть, милостивец, есть, братец! Потом и кровью заработала, двадцать лет для сыновей своих и на смерть себе копила… Те, которые для Антоська, оставлю, а что для Пилипка — отдам; пусть ему на избавление пойдут… Работала я, надрывалась, жала, полола, нанималась куда попало, на всякую работу, кожу с рук обдирала, постное ела, босой ходила и все для них откладывала.
Как бы в подтверждение того, что у нее от работы кожа с рук слезала, она протянула к лучине, горевшей в расщелине печи, свои маленькие руки, исхудалые и черные, как вспаханная земля, с искривленными пальцами, покрытыми мозолями от серпа, коромысел, От рытья земли и другой геркулесовой работы, выполняемой в течение девятнадцати лет. А тому, что за эти два десятка лет она ела только постное и не истратила лишней копейки, поверить было нетрудно, потому что даже в этот студеный мартовский вечер ее ноги были прикрыты лишь слоем грязи.
Миколай, окинув фигуру этой нищенки взглядом, который можно было бы назвать саркастическим, скривил рот.
— Сколько же у тебя может быть денег? — небрежно спросил он. — Небось, и на пять процентов не хватит.
Кристина, видимо, испугалась: он, пожалуй, заподозрит, что у нее нет денег, и откажет в своем покровительстве. Она ударила себя кулаком в грудь.
— Есть, — закричала она, — ей-богу, есть! Хватит!
— Ну, а сколько у тебя есть?
Скрестив руки на груди, она заговорила:
— О, я скажу тебе, Миколай, все. Как ксендзу на исповеди скажу… Сто рублей у меня есть для Антоська, сто рублей для Пилипка и сто рублей для себя, на погребение… чтобы, когда помру я, сыночки меня в красивом гробу похоронили, с ксендзом и хоругвями… Жила я в тяжкой беде, так пусть хоть похоронят меня сынки в богатстве… и нищим деньги раздадут и ксендзу дадут — на заупокойную обедню, и на могилке моей крашеный крест поставят. Вот что у меня есть: тяжелым трудом я скопила. Постное ела, босиком ходила, на работе надрывалась и скопила. Сама скопила. Никто мне, кроме бога, не помогал.
Она начала свое признание неохотно, только под угрозой потерять покровительство Миколая, но при последних словах выпрямилась, увядшее лицо ее просветлело и как бы помолодело, черные глаза засияли. И что было удивительно — в них сияло чувство гордости.
— Сама работала, сама скопила. Никто не помогал, — повторяла Кристина.
Когда она, выпрямившись, сверкая глазами, простодушно, с тихой улыбкой глядела на мужчин, это была уже не изможденная нищенка, не червь, попранный и придавленный, а человек, чувствующий свое достоинство.
Миколай смотрел на нее с удивлением. Тот психологический момент, когда расцветала и росла гордая душа этой женщины, не привлек его внимания, да он и не способен был понять его. Миколая изумили услышанные цифры. На лице солдата мелькнуло выражение радости.
— Ну, баба, женись я на такой, как ты, всем светом ворочал бы теперь. А мою чертовку угораздило бросить меня да еще детей на моей шее оставить… Возвращайся домой солдат, а жены твоей и след простыл! Где она теперь, гэтая моя Марыська, где?..
На минуту забыв о Кристине, он тряхнул головой, и влага затуманила его серые глаза. Видно, и у него в груди, где-то на самом дне, просыпались иногда воспоминания и его порою посещала тоска…
Однако недолго сокрушался отставной солдат о том, что, вернувшись домой, не застал в хате своей Марыськи. Теперь его горячо занимали дела ближних.
— Ну, — сказал он, — так приходи завтра и ты вместе с Ясюком к грыненской корчме.
Ясюка точно вдруг разбудили.
— Да ведь я, — начал он, запуская руки в темную гриву, — я сам еще не ведаю… то ли идти, то ли отказаться…
Но с лежанки послышался слабый, кроткий голос:
— Иди, Ясюк, иди… Не отказывайся от панской милости… Попытайся, может присудят тебе землю и кончатся наши невзгоды… Ой, горе мое, что такая я слабая… Сама бы пошла и в ноги тому пану поклонилась. Иди, Ясюк, если бога боишься, иди! Я болею, может помру скоро, так хоть, помирая, знать буду, что ты перестал есть батрацкий хлеб и что дети…
Она не кончила. Так была слаба, что голоса не хватило. Застонала только и позвала Кристину, чтобы та взяла у нее ребенка и положила в люльку.
Ясюк поглядел с минуту в ту глубокую темноту, откуда заговорила с ним жена и где тихонько пищал новорожденный.
— Ну, — сказал он, вставая, — ладно, пойду! Будь что будет! Возьму с собой немного денег. Может, господь бог смилуется и вознаградит…
Миколай просиял.
— Вот и ладно! — воскликнул он. — Так выпьем!
— Выпьем! — повторил Ясюк, стараясь, видимо, громким голосом и энергичными жестами заглушить в себе остатки колебаний и тревоги.