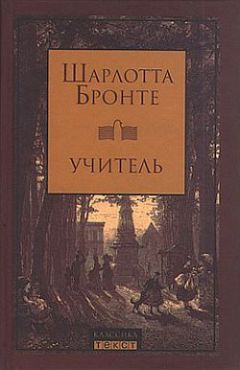Все это меня весьма заинтересовало, ибо, с одной стороны, раскрывало характер Хансдена, а с другой — проясняло мотивы его действий; я забыл даже поддержать разговор и сидел молча, взвешивая услышанное.
— Так вы благодарны мне? — спросил он вдруг.
В самом деле, я был ему благодарен, в тот момент я даже мог бы почувствовать к Хансдену симпатию, если б не заявление, что все сделанное им ко мне лично не относилось. Вообще, человек — существо упрямое; потому утвердительно ответить я не мог и вместо благодарности посоветовал: если он ожидает награды за свое поборничество, поискать ее в лучшем мире, когда ему не посчастливится найти ее в этом. В ответ Хансден назвал меня «бесчувственным бездельником-аристократом», на что я обвинил его в том, что он вырвал у меня изо рта кусок хлеба.
— У вас грязный хлеб, молодой человек! — вскричал Хансден. — Грязный и вредный. Ваш хлеб из рук тирана—я ведь говорил вам уже, что Кримсворт тиран. Тиран к своим рабочим, тиран к клеркам и когда-нибудь сделается тираном по отношению к своей жене.
— Ерунда какая! Хлеб есть хлеб и жалованье есть жалованье. Я потерял его — причем с вашей помощью.
— В ваших словах есть смысл, однако, — ответил Хансден. — Должен сказать, я приятно удивлен этим столь дельным замечанием. Я уж было вообразил, исходя из прежних моих наблюдений, что восторг от вновь обретенной вольности на какое-то время лишит вас благоразумия и предусмотрительности. Теперь я о вас лучшего мнения: вы не забываете о насущном.
— «Не забываете о насущном»! Еще бы! Мне надо жить, и для этого я должен иметь то, что вы называете «насущным», которое я могу лишь заработать. Повторяю: вы лишили меня работы.
— И что вы намерены предпринять? — невозмутимо продолжал Хансден. — У вас влиятельные родственники; надо полагать, они скоро приищут вам другое место.
— Влиятельные родственники? Кто? Хотел бы я знать, кого вы имеете в виду!
— Сикомбов.
— Вздор! Я порвал с ними. Хансден глянул на меня с недоверием.
— Да, — подтвердил я. — Да, и это бесповоротно.
— Вернее сказать, они порвали с вами, Уильям?
— Это уж как изволите. Они предложили мне свое покровительство при условии, что я поступлю в духовное звание; я отверг и такое соглашение, и их деньги; я расстался с моими суровыми дядюшками и счел за лучшее кинуться к старшему брату, из чьих любящих объятий я теперь вырван бессердечным вмешательством постороннего — вас, иначе говоря.
Сказав это, я не мог сдержать улыбку; такое же едва заметное выражение появилось и на губах у Хансдена.
— О, понимаю! — сказал он и, заглянув мне в глаза, казалось, проник прямо в душу. Минуту-две он сидел, подперев рукой подбородок, усердно вчитываясь в выражение моего лица, затем спросил: — Вам, серьезно, нечего ждать от Сикомбов?
— Только отвержения и презрения. Почему вы переспросили? Да разве могут они допустить, чтобы руки, перепачканные конторскими чернилами, в жире от фабричной шерсти, когда-нибудь соприкоснулись с их аристократическими дланями?
— Без сомнения, допустить такое трудно; но тем не менее вы истинный Сикомб и в наружности, и в речах, и, можно сказать, в поведении — неужели они отреклись бы от вас?
— Они не признают меня — и довольно об этом.
— Вы сожалеете, Уильям?
— Нет.
— Почему нет, молодой человек?
— Потому что к этим людям я никогда не питал симпатии.
— Как бы то ни было, вы из их породы.
— Это еще раз доказывает, что вы мало обо мне знаете; я сын своей матери, но не племянник дядюшек.
— Это пока; один из ваших родственников — лорд, хотя, пожалуй, ничем себя не прославивший и не слишком-то могущественный; зато другой — достопочтенная особа; вы можете от этого немало выиграть.
— Ничего подобного, мистер Хансден. Да будет вам известно, даже когда я и хотел покориться своим дядюшкам, я не мог гнуться перед ними с достаточной грациозностью, чтобы снискать их любовь. Я скорее пожертвую своим покоем и благополучием, нежели попытаюсь вернуть покровительство родственников.
— Допустим; и ваш мудрый план изначально состоял в том, чтобы рассчитывать на собственные средства?
— Совершенно верно. Я должен рассчитывать лишь на себя — до самой смерти, потому как я не могу ни понять, ни перенять, ни придумать тех средств и способов, которыми пользуются некоторые.
Хансден зевнул.
— Ладно, — сказал он, — во всем этом для меня ясно только одно: меня это не касается. — Он потянулся и снова зевнул. — Интересно, который час, у меня на семь условлена встреча.
— По моим часам без четверти семь.
— Ну, тогда я пойду. — Он поднялся. — Больше вы не сунетесь в коммерцию? — поинтересовался он, задержавшись у камина и облокотясь о полку.
— Нет, не думаю.
— Глупость сделаете, ежели сунетесь. Может, при всем при том вам лучше передумать насчет предложения дядюшек и стать пастором?
— Для этого мне надо полностью переродиться — и внешне и внутренне. Истинный священник должен быть лучшим из людей.
— Неужели! Вы так считаете? — оборвал он меня с издевкой.
— Да. Но во мне нет тех особенных качеств, что потребны для хорошего пастора; и чем браться за то, к чему у меня нет призвания, я лучше пойду на крайние лишения.
— Да, на такого заказчика чрезвычайно трудно угодить! Вы не желаете быть ни коммерсантом, ни пастором; вы не можете стать ни адвокатом, ни доктором; для праздного же существования у вас нет средств. Я рекомендовал бы вам выехать за границу.
— Как! Без денег?
— В поисках денег, молодой человек. Вы говорите по-французски — с отвратительным английским акцентом, разумеется, но все жтаки говорите. Отправляйтесь на континент — может, там вам что-нибудь подвернется.
— Видит Бог, как хотелось бы мне отсюда уехать! — воскликнул я с жаром.
— Вот и поезжайте! Какой черт вас тут держит? До Брюсселя, например, вы можете добраться за пять-шесть фунтов, если умеете экономить.
— Нужда научит, если еще сам не научился.
— Тогда отправляйтесь, и да поможет вам ваша смышленость. Брюссель я знаю, почти как К***, и уверен: вам он больше подойдет, нежели, к примеру, Лондон.
— Но работа, мистер Хансден! Мне надо ехать туда, где я смогу получить место; а в Брюсселе — где я найду работу и у кого раздобуду рекомендацию?
— В вас говорит осторожность. Шага ступить не можете, если не знаком каждый дюйм пути. У вас найдется лист бумаги, перо и чернила?
— Надеюсь.
Я с живостью все это раздобыл, догадавшись, что он намерен сделать.
Хансден сел, черкнул несколько строк, сложил лист, запечатал и надписал письмо, затем вручил мне.
— Итак, мистер Осторожник, у вас будет первопроходец, который обрубит первые сучья трудностей на вашем пути. Я уже понял, юноша, вы не из тех, кто кинется куда-то очертя голову, не зная, как оттуда выбраться, — и вы правы. Безрассудство мне претит, и ничто никогда не заставит меня принять какое-либо участие в таком человеке. Тот, кто безрассуден в собственных делах, в десять раз безрассуднее по отношению к друзьям.
— Это рекомендательное письмо, полагаю? — спросил я, повертев в руках конверт с его посланием.
— Да. С ним в кармане вы не рискуете впасть в абсолютную нищету, что было бы для вас все равно что полная деградация, — я бы, во всяком случае, считал именно так. Человек, которому вы передадите это письмо, обычно знает два-три вакантных места, куда возьмут по его рекомендации.
— Это вполне меня устроит, — сказал я.
— Прекрасно; так где ж ваша благодарность? — потребовал мистер Хансден. — Вы вообще знаете, как сказать: «Спасибо»?
— У меня есть пять фунтов и еще часы, которые моя крестная, которой я никогда не видел, подарила мне восемнадцать лет назад, — с достоинством ответил я; и тогда, и в дальнейшем я считал себя счастливцем оттого, что не завидовал никому в христианском мире.
— Но ваша благодарность?..
— Я очень скоро уеду, мистер Хансден; если все будет хорошо — уеду завтра; ни дня не останусь дольше, чем вынудят дела.
— Все это прекрасно, но с вашей стороны было бы приличнее сначала отдать должное моему участию. Торопитесь! Сейчас пробьет семь — и я жду, когда меня поблагодарят.
— Будьте так любезны, посторонитесь, мистер Хансден: мне нужен ключ, что лежит с краю на камине. Прежде чем лечь спать, я сложу чемодан.
В доме пробило семь.
— Молодой человек, оказывается, невежа, — сказал Хансден и, забрав с полки шляпу, вышел из комнаты, тихонько посмеиваясь.
Я чуть не бросился за ним вдогонку: я действительно собирался следующим утром выехать из К***, и, конечно, уже никак не мог с ним попрощаться.
— Ну ничего, — сказал я себе. — Когда-нибудь мы еще повстречаемся.
Читатель! Возможно, вы никогда не бывали в Бельгии? И вам не случилось узнать облик этой страны? И в вашей памяти не запечатлены черты ее, как в моей? Три — нет, четыре картины висят по стенам той кельи, где, как полотна, хранятся мои воспоминания. Первая — Итон. В этой картине все — в перспективе, все — отдаленное, миниатюрное, но свежее, зеленое, росистое, с весенним небом, полным сияющих облачков; впрочем, не все мое детство было солнечным — в нем были свои тучи, своя стужа и бури.