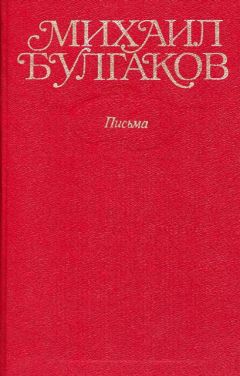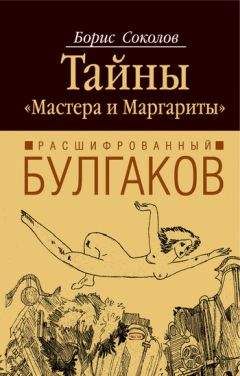Как мучалась, узнав о пропаже, всю ночь ходила по комнате, а утром, часов в 8, пришла в ЦДЛ, ждала Уманскую, хотя и понимала, что самое страшное, что могло случиться, случилось... Да, книгу украли...
И вот ровно через два года звонит один знакомый:
― Вы помните, у вас украли книгу с выставки?
Еще бы я не помнила!
― Так вот, человек, укравший книгу, стоит рядом со мной, он обещает привезти ее вам завтра.
― До завтра я не доживу, если он не привезет ее сейчас же. И слышу в трубку: «Она до завтра не доживет». И слышу другой голос: «Если вы требуете сегодня, то привезу сегодня».
— Я не требую, я прошу вас, умоляю, что хотите отдам вам, лишь привезите ...
И вот через час приходит мой знакомый с вином, фруктами, а позади него вижу небольшого человечка с книжкой в руках. Я сразу оттеснила моего знакомого и бросилась к тому, второму. Да, это моя книга, самое дорогое, что у меня осталось от Михаила Афанасьевича.
— Что вы хотите за эту книгу? — лихорадочно спросила я. — И вы понимаете, Виктор Васильевич, у человека ни стыда ни совести не было. Спокоен, деловит: «Дайте мне сборник „Избранная проза“». Я тут же ему принесла, и он ушел. Я могла бы узнать, кто он, но было слишком гадливо, омерзительный тип... У меня в это время находился мой знакомый, высокий, сильный мужчина. Он все порывался побить его, но я его уговаривала: все-таки он возвратил мне мою радость...
Однажды я пришел к Елене Сергеевне после «Мольера», поставленного театром Ленинского комсомола. И, естественно, разговор зашел об этом спектакле. Много интересного рассказала Елена Сергеевна и в этот вечер. Но записать я смог только ее рассказ о Москвине:
— Мольера должен был играть Москвин. И начал уже репетировать, но однажды пришел к нам необычайно взволнованный, ушли в другую комнату и долго там говорили с Мишей. Потом уже Миша мне рассказывал, почему Москвин отказался от роли, у него был такой же разрыв с семьей, он расставался с Татьяной Михайловной, матерью его сыновей, и была любовь с Аллой Тарасовой. «Вообразите, я говорю на публике монолог Мольера, уговариваю Мадлену оставить надежду, объясняюсь в любви к Арманде, ведь это все и со мной случилось... И когда я все это начинаю излагать, я словно раздеваюсь на сцене. Не могу. Ведь все же об этом знают. И об Алле, и о моем уходе из семьи...» А Станицын не мог сыграть так, как было задумано. Уж не говорю о современных исполнителях роли Мольера
А самое грустное, что я увидел у Елены Сергеевны, — это 11-й и 1-й номера журнала «Москва» с «Мастером». Одна старая почитательница М. Булгакова проделала колоссальную работу — восстановила все места, которые были выброшены из опубликованного текста, аккуратно подклеив их туда, где они должны были быть. Страшная картина... Мы видели израненных людей, разрушенные дома, сожженные села, опоганенные храмы, но видеть столь израненную книгу, роман, приходилось впервые, хотя к тому времени я уже много лет проработал в издательстве «Советский писатель», и много книг, рукописей прошло через мои руки. Целые куски, и сочные куски, были изъяты из рукописи... И тут Елена Сергеевна рассказала о своей клятве, которую она дала умирающему Михаилу Афанасьевичу.
— За пять дней до смерти я заметила, что Михаил Афанасьевич очень забеспокоился. Я спрашиваю его: «Пить?». Нет, замотал головой, «Сережу?» Тоже нет. «Мастер?» И я поняла, что его беспокоит, И тогда я ему сказала; «Клянусь, буду жить до тех пор, пока роман не будет издан полностью...» И можете себе представить мое волнение, беспокойство, когда я передала К. Симонову рукопись. Он прочитал и с восторгом говорил о романе. У меня появилась надежда. Но как я ни боролась, пришлось пойти на уступки. Причем мне совершенно непонятны требования редакции, ее мотивы. Все равно же все осталось, замысел, идеи, только испортили стиль, изранили тело, но ведь дух-то остался. Сейчас ведем переговоры с Гослитом об издании полного «Мастера»
Елена Сергеевна не дожила до «полного» «Мастера и Маргариты» — в России роман вышел в 1973 году — но полного «Мастера» она мне показывала на французском, немецком, английском, чешском. Так что эта героическая женщина сдержала свою клятву.
Сколько раз я был у Елены Сергеевны? Не знаю... К сожалению, я не все записывал после наших встреч. Помню, конечно, как она внимательно следила за моей работой над статьей «М.А. Булгаков и „Дни Турбиных“». Она предоставила мне выписки из своего дневника, касающиеся пьесы «Батум». Да и вообще она очень ждала этой публикации — ведь был март 1969 года, отношение к Булгакову было противоречивым.
Помню, как я принес журнал «Огонек» с публикацией этой статьи. Елена Сергеевна порадовалась вместе со мной: она-то хорошо знала от меня, что статья несколько раз «слетала» со страниц «Огонька» и мне приходилось дважды бывать по этому поводу в ЦК КПСС, доказывать, убеждать, спорить... Как раз в тот момент, когда мы радовались публикации, раздался телефонный звонок. Елена Сергеевна подошла к аппарату. Звонил В. Каверин. Я стал невольным свидетелем разговора. Обычно стараешься не прислушиваться к телефонным разговорам, мало ли какие тайны можешь узнать... Но тут дверь открыта: чувствовалось, разговор шел о статье, к тому же В. Каверин упрекал Елену Сергеевну, конечно, в ироническом тоне, в том, что у нее появился еще один защитник. В гордой самонадеянности я подумал, что защитник — это я, автор статьи. Но вскоре я понял, что защитник М.А. Булгакова — так прочитал мою статью в «Огоньке» В. Каверин — это Сталин... Вовсе так не думал, цитируя известные слова Сталина о «Днях Турбиных» и столь же известный разговор между Сталиным и Булгаковым по телефону. Но вот, оказывается, можно было прочитать статью и таким образом. Елена Сергеевна никак не прокомментировала телефонный разговор с В. Кавериным, но я понял, что радоваться нечему: М.А. Булгаков, его личность, его судьба, его творчество становилось ристалищем для литературных столкновений. Так оно и вышло...
И публикация «Дневников» — это то же самое ристалище, это битва за подлинного Булгакова, за восстановление сложной, драматической его судьбы. И кому, как не Елене Сергеевне, которая была рядом с ним в самые тяжелые, пожалуй, годы, когда все написанное не «шло» ни в театре, ни в издательствах, когда тяжелый меч репрессий вот-вот должен был опуститься и на голову художника, не радоваться первым положительным статьям о Булгакове. По записям Елены Сергеевны можно почувствовать его и ее настроение: в такой-то день арестован артист МХАТа, в такой-то день умер от разрыва сердца Орджоникидзе, арестована жена близкого друга-художника... Все это вселяет тревогу, все это добавляет горечи к тому, что они уже лично испытали.
Но есть и другое: Елена Сергеевна просто довольна, что «покачнулось» положение Киршона, Авербаха, Афиногенова — главных гонителей Булгакова, просто радуется, узнав, что «слетел» со своего высокого поста О. Литовский. В «Советском искусстве» сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Гнусная гадина. Сколько зла он натворил на этом месте /с. 152/
И какое горькое разочарование она испытала, когда через некоторое время записывала: «Пришли Марков и Виленкин. Старались доказать, что сейчас все по-иному. М.А. отвечал, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин — все будет по-старому. Литовский — это символ» — это произошло 28 сентября, почти через четыре месяца после первой записи.
А читаешь «Дневники», прослеживаешь творческую историю пьесы «Батум», не перестаешь удивляться человеческой низости, а порой и подлости людей, которые только что превозносили пьесу, называли ее гениальной; со всех концов страны театры обращались с предложением поставить ее к 60-летию Сталина, а потом, когда «наверху» пьеса не понравилась /руководителям третьего ранга сообщили, почему пьеса не понравилась/, телефон вдруг замолчал, наступила в доме мертвая тишина. И лишь самые близкие, родные и друзья, выражали сочувствие и говорили слова поддержки. Кто не испытывал это на себе... И Елена Сергеевна лаконично констатировала эти факты, но за этой лаконичностью раскрывается глубочайшая трагедия творческой личности и той, которая как личное воспринимала все, что с Булгаковым происходило.
Горько, больно читать эти страницы «Дневника». Многие его страницы использованы здесь в качестве комментариев.
О последних днях Михаила Афанасьевича говорится здесь, по понятным причинам, очень коротко. В «Письмах» об этом полно и подробно, столько подробностей мы узнаем из этих писем.
Приведу лишь из последних записей Елены Сергеевны слова Михаила Афанасьевича, сказанные ей накануне смерти, за два дня в минуты просветления, на которые я уже не раз ссылался: «Ты для меня все, ты заменила весь земной шар. Видел во сне, что мы с тобой были на земном шаре».
Совсем по-иному воспринимаешь «О, мед воспоминаний» Любови Евгеньевны Белозерской — это действительно воспоминания, написанные почти полвека после того, как события произошли. Да, конечно, остались какие-то письма, записки, многое удерживала прекрасная память, и все это зафиксировало талантливое перо превосходной рассказчицы и превосходно образованного человека.