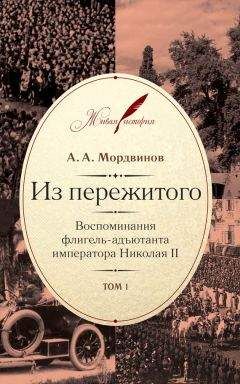Ознакомительная версия.
— Вера, с помощью которой открываются двери к должностям, перестает быть верой, — сказал Толстой. — Вера есть внутреннее убеждение, а не формальное признание господствующего порядка вещей, вопрос совести, а не опора в службе. Я упомянул о магометанах лишь как о примере, а, в сущности, любая современная религия уже превратилась в трамплин для натуры энергической, а то и просто безнравственной. Вас не мучает эта мысль, Василий Иванович?
Василий Иванович долго шел молча — они гуляли вдвоем по саду, — потом признался:
— Помните, рассказывал, как вешали меня? А ведь им только и надо было, чтобы я на Библии поклялся. Только этого и добивались.
— То есть формы, пустой формальности, — подхватил Толстой. — Вот во что превращается вера, когда забывается то, ради чего создавалась она. Вспомните первых христиан: они шли на муки за веру свою, на костры восходили, к лютым зверям в клети с молитвой святой входили. Им ничего не обещалось за то, что они называли себя учениками Христа, ничего, кроме пыток, слез, истязаний и смерти. А они — шли и веровали, веровали и шли!
— И дошли, — тихо подсказал Василий Иванович.
— И дошли, — подхватил Толстой. — Дошли до того, что вера Христова стала подспорьем карьеры, ее рычагом и фундаментом. Заяви на словах, что веруешь свято, что блюдешь заповеди, походи в церковь прилюдно, перекрести лоб — и ты уж обеспечен доверием, ты уж столп благонадежности, ты уж и обществу опора. А все ведь — в словах, в словах!
— Вы правы, Лев Николаевич, — сказал Олексин. — Вера вышла из души человеческой, превратившись в форму государственной морали.
— Вера стала безверием, — вздохнул Толстой. — И только мужик еще свято верует в то, что бог есть совесть. Он еще живет по заветам первых христиан, ходивших в рубище и не искавших наград, должностей и власти за веру свою. Вот так и надо жить, ничего не вымаливая у власть имущих и не торгуя совестью.
— Это пассивная жизнь, — не согласился Олексин. — Вы призываете к гармонии личной, Лев Николаевич, а нужно стремиться к гармонии общества.
— Сначала надо переделать себя.
— Но через труд, а не через веру, — упрямо сказал Василий Иванович. — Надо жить своим трудом, надо стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, надо следовать христианской заповеди не делать другому того, чего себе не желаешь. Вот аксиомы, на которых только и возможно построить справедливое общество будущего.
— Нет, Василий Иванович, вы не правы. Вы опускаете веру, а без веры все здание, что воздвигаете, зашатается и рухнет неминуемо. Вы все о кирпичиках толкуете, а где же раствор, что скрепит их? Нет, нет, у каждого общества раствор крепящий должен быть, как у пчелы воск. Коли не озаботитесь этим своевременно, то государство озаботится. Таким вас раствором скрепит, что и кабала татарская раем покажется. Нет, нет, только через себя, только через себя!
Разговоры случались почти каждый день и часто повторяли друг друга. Толстой словно кружил, заблудившись в глухом лесу, возвращался к собственным следам и снова упрямо направлялся искать выход. Мысль о совести мужика, жившего, по его представлениям, в полной гармонии формы и содержания, чаще всего тревожила Льва Николаевича. Он постоянно выходил на нее с разных сторон, присматриваясь, изучая и проверяя.
— Знаешь, Катенька, по-моему, у Льва Николаевича какой-то кризис, — говорил Василий Иванович перед сном Екатерине Павловне. — В нем что-то нарождается, а что-то отмирает, но все одновременно и потому болезненно.
— Софья Андреевна говорила мне, что он о декабристах роман задумывает.
— Нет, здесь не роман, здесь большее что-то, — задумчиво сказал Олексин. — Како верую и верую ли вообще — вот что его сейчас мучает.
— Однако Лев Николаевич регулярно посещает церковь, Вася.
— А это старое, это не отмерло еще. Это корни, вот их-то он и рвет из души своей. Ему закон надо вывести.
— Какой закон? — удивилась Екатерина Павловна.
Василий Иванович недоуменно пожал плечами и растерянно улыбнулся:
— Не знаю, Катенька. Это я так сказал, по наитию, что ли. Беспокоит меня, что он как-то об обществе не думает. Нужно через общество на личность влиять, а он через личность на общество. Ты как думаешь, прав я, что сомневаюсь?
Ответить Екатерина Павловна не успела: в дверь постучали. Василий Иванович накинул пиджак, вышел открыть.
— Вам кого?
— Это я, Вася. Я, Иван, не узнаешь?
— Ваня? Какими судьбами?
Братья расцеловались. Василий Иванович раздел позднего и неожиданного гостя, провел в комнату.
— Катенька, это Ваня, вот не ожидали мы, правда? А это жена моя, Ваня, Екатерина Павловна. Ты почему здесь? И время позднее, и не каникулы. Случилось что в доме?
— А где… где Дарья Терентьевна? — не отвечая, спросил Иван, странным, растерянным взглядом обведя комнату. — Она что же, не приезжала?
— Кто должен был приехать, Иван?
— Дашенька не приезжала? Так и не приезжала совсем? Ну скажите же, правду мне скажите!
— Никто не приезжал, — растерянно сказала Екатерина Павловна. — Что с вами, Ваня?
Странно обмякнув, Иван обессиленно опустился на стул, закрыв лицо руками. Супруги испуганно переглянулись.
— Кто должен был приехать, Иван? — спросил Василий Иванович. — Ну что же ты молчишь?
— Я опозорен, — жалко сказал Иван, уронив руки на колени. — Я обманут и опозорен. Что мне делать? Что же мне делать, Вася, я не могу, не могу возвращаться в Смоленск!
По лицу его текли слезы. Крупные, детские. Последние детские и потому особенно трогательные и беспомощные.
3
Воскресным солнечным днем Каля Могошоаей — аристократическая улица Бухареста — была заполнена открытыми, нарядно убранными экипажами. В час безделья — между завтраком и обедом — эту улицу занимала местная знать: русские офицеры здесь почти не показывались. В открытых пролетках, ландо и фаэтонах располагались дамы общества, приезжие кокотки и наиболее преуспевшие из каскадесс, что хлынули в Румынию не только из России, но и со всей Европы. Расфранченные, набриллиантиненные и нафабренные мужчины гуляли по тротуарам; в экипажах оставались только старцы в сюртуках и мундирах, украшенных орденами. Здесь обсуждались новости, рождались сплетни, завязывались знакомства и начинались интриги. Среди фланирующей публики бегали девочки-оборвашки, бойко предлагая господам букетики свежих подснежников.
Возле модной кондитерской Фраскатти стоял худощавый молодой человек в потрепанной сербской шинели с чужого плеча, старом солдатском кепи и растоптанных опанках. Несмотря на полубродяжий вид, держался он достаточно надменно, чтобы обезопасить себя от расспросов полицейских, с насмешливым презрением наблюдая за шумной и блестящей толпой светских бездельников. Судя по всему, попал он в этот район случайно, но, то ли ему некуда было спешить, то ли еще по какой причине, уходить пока не торопился.
На напели неподалеку от странного молодого человека, на которого косились все — мужчины с нескрываемой брезгливой настороженностью, а дамы даже с интересом, — остановился открытый пароконный экипаж, в котором восседал сухой старик с непомерно толстыми губами и живыми, пронзительными, очень еще зоркими глазками. Цепкие руки его лежали на набалдашнике трости, и он все время шевелил пальцами, любуясь игрой крупного бриллианта на безымянном пальце правой руки. Рядом с коляской стоял полный средних лет мужчина, обмахиваясь соломенной шляпой.
— Австрийцы — народ, по крайней мере, европейский, цивилизованный, — говорил он, и в тоне его слышалось застарелое подобострастие. — А эти степные варвары, что посылают вперед себя орды диких казаков, — это же угроза скорее Европе, чем Турции. И мы как древнейшая нация Европы…
— Да, да, вы правы, — рассеянно отвечал старик, бегая острыми глазками по пестрой толпе. — Я, как вам известно, не поддерживаю нашей турецкой партии и во многом расхожусь с ее лидером Ионом Гиком, но он все же во многом прав, во многом. Мы не только древнейшая нация, наследники римлян, — мы аванпост Европы, и нам следует помнить, что наша Мекка — Париж, а не Москва.
— Но князь, увы, не может не считаться с простолюдинами, — вздохнул собеседник. — А вся чернь в восторге от этих гуннов, что ворвались в нашу несчастную Румынию.
Бегающие глазки старика окончательно остановились на черноволосой, очень хорошенькой цветочнице. Коричневый палец отклеился от трости и поманил ее, ослепительно сверкнув бриллиантом.
— Что у тебя, моя миленькая?
— Уно бени, — торопливо сказала девочка, тотчас подбежав к экипажу и протягивая цветы. — Уно бени, домине.
— Уно бени? А вот это хочешь? — старик с ловкостью менялы завертел перед глазами девочки серебряным полуфранком. — Ну посмотри, посмотри, как блестит. Хочешь получить его?
Ознакомительная версия.