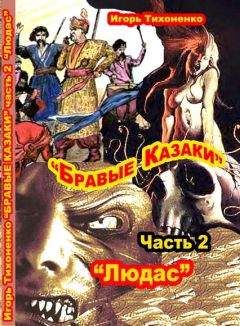Разговоры эти не проходили впустую. После семинарии, приучившей его к самоуничижению, после всех разочарований, которые принесла ему служба в приходе, слова баронессы живительно, благотворно действовали на Васариса, словно потоки льющейся с небес лазури и солнца. Поэтому он за короткое время привык и привязался к госпоже Райнакене, как к доброму, неоценимому другу. Не видя ее два-три дня, он уже начинал беспокоиться, чувствовал пустоту и потребность встречи с ней. Раньше он воображал, что любовь — это опаляющая сердце страсть, чувственность или некое идеальное, неземное обожание и преклонение. Теперь же он увидел, что любовь, кроме того, — совершенно реальная опора в жизни, хотя он до сих пор боялся сознаться в том, что любит госпожу Райнакене. Он говорил себе, что она очень добра к нему, что ему нужно повидаться с ней по такому-то или по такому-то делу. Он и сам не знал, что сильнее притягивало его к ней: ее красота и женственность или духовные блага, которые он приобретал а общении с ней.
Элемент чувственности в их отношениях так и остался на последнем месте. Васарис умышленно избегал его, да он по своей неопытности в любви и не испытывал тяготения к эротике. Кроме того, он стеснялся баронессы и никогда бы не отважился проявить надлежащую инициативу. Баронесса же находила своеобразную прелесть и новизну в этой игре на оттенках и полутонах чувства, так как все прочие стороны любви ей были слишком хорошо известны. Помимо женского интереса к молодому поэту-священнику, она и впрямь чувствовала к нему нечто вроде материнской нежности. Ей становилось жаль его, когда она видела, как терзает он себя, какая борьба в нем происходит после каждого более или менее свободного проявления чувства. Крайним проявлением их флирта были поцелуи — иногда полушутливые, шаловливые, иногда откровенные, непроизвольные, но никогда у них не доходило до опьянения, так что Васарис, проверяя свою совесть, никогда не мог признать, что совершил смертный грех.
Несмотря на многие неприятности, отравлявшие Васарису эту дружбу, несмотря на то, что ощущение вины точно острый шип ранило его совесть, эти несколько недель были семой счастливой порой за весь первый год его священства.
XXIV
Однажды, вернувшись из усадьбы, Васарис нашел письмо. Прелат Гирвидас приглашал его как можно скорее приехать в Науяполис для разговора по важному делу. Васарис догадался, что это за дело. Скорее всего жалоба настоятеля была передана на расследование Гирвидасу, и он вызывал его теперь для объяснений. Если так, тогда, пожалуй, хорошо, — строил предположения «преступник», — так как прелат — человек широких взглядов, расположен к нему и косо смотрит на настоятеля Платунаса.
Недолго думая, Васарис снарядился в город. Оказалось, что он не ошибся. Гирвидас встретил его с разгневанным видом, хохолок на его темени стоял дыбом, что не сулило преступнику ничего хорошего. Прелат ввел его в кабинет, запер за ним дверь, посадил перед собой и, пронизывая суровым взглядом, начал говорить, подчеркивая каждое слово:
— Знаете ли, ксендз, зачем я пригласил вас сюда? Епископу подана на вас жалоба! Да, жалоба! Вы водитесь с какой-то там барынькой! Вы просиживаете у нее целые дни, пренебрегаете делом и возмущаете прихожан. Она тебе пишет цыдульки, а ты ее принимаешь в своей комнате! Все это sacerdoti non licet. Дело передано мне на расследование. Обвинения серьезные. Ну?
Васарис начал было свои объяснения, но вдруг гневное лицо прелата расплылось в улыбке, хитрые глазки часто замигали, и он затрясся от заливистого дробного хохота.
— Испугался, милостивец, а? Целый воз обвинений, да еще барынькина цыдулька! — Он вытащил из ящика листок и погрозил Васарису. — Однако и дубина же этот Платунас! Я знал, что он на тебя косится и готов подложить тебе свинью. Все же кое-какие основания у него, видать, имеются. Ну, рассказывай, что за дела у вас с этой барынькой? И о каком там визите упоминает он в жалобе?
Прелат провел ладонью по лысине, и хохолок исчез. Ободренный таким снисходительным отношением, Васарис стал рассказывать о баронессе и своих визитах в усадьбу. Но он оправдывался, как виноватый. Поэтому с его слов прелат представил себе такую картину: баронесса, уже не первой молодости серьезная женщина и добрая католичка, время от времени приглашала к себе в усадьбу калнинских ксендзов. Однажды они пришли втроем. Васарис, как литератор, заинтересовался тамошней библиотекой и с одобрения хозяйки стал ходить чаще и брать книги. Кроме того, он занимался с бароном литовским языком. Как-то вечером; баронесса мимоходом зашла на минутку в дом причта — поглядеть, как он живет. Раза два они играли в усадебном парке в крокет. Вот и все.
Объяснения Васариса вполне удовлетворили прелата.
— Я так и думал, — сказал он, — что Платунас сделал из мухи слона. Ну, в подробности мы вдаваться не будем. Возможно, баронессе и хочется поймать тебя в свои сети… От ее письма до сих пор пахнет искушением… Поди тут, разберись… Случались и не такие истории. А тут поэт, не чурбан какой-нибудь… Ты веди себя осторожней. Твои стихи могут тебя подвести почище, чем Платунас. Ну, никто этого вопроса не поднимал, не стану поднимать и я. Гляди только, чтобы не было в приходе публичного скандала!
— Так как же, ксендз прелат?.. Могу я остаться в Калнинай?
— Вот уж и не знаю, как оно будет. Если настоятель так насел, может, лучше перевести тебя в другой приход. Самому легче будет.
— Ничего, ксендз прелат… Я к Калнинай привык… Потом библиотека…
Прелат тонко усмехнулся.
— Библиотека… Гм… Ох, как бы ты с этой библиотекой не стал слишком большим хитрецом…
Васарис уловил нотку подозрения и больше не настаивал. А прелат, закончив «следствие», коснулся рукой лысины, и хохолок на темени опять стал дыбом. Лицо у него посуровело, и Васарис съежился в ожидании каких-нибудь новых неожиданных нападок.
— Да, мы тут строим свои планы, а что будет завтра, один господь ведает, — торжественным тоном начал прелат. — Вам там, в Калнинай, и не слыхать, что делается на свете. Вон позавчера в Сербии убили австрийского престолонаследника с женой… — и он разложил на столе во всю ширину лист газеты.
— На Балканах всегда неспокойно, — подтвердил Васарис, взглянув на газету.
— На Балканах!.. Тут, милостивец, дело идет не о Балканах, а обо всей Европе. Чуешь, чем это пахнет? Австрия объявит войну Сербии. За Сербию вступится Россия. Германия будет заодно с Австрией. А французам того только и надо. Неспроста Пуанкаре приезжал в Петербург. Это единственный случай отбить обратно Эльзас-Лотарингию… — И, забегав из утла в угол, прелат пустился в сложные рассуждения по поводу европейской политики. Кончив, он посмотрел на гостя и, воздев палец, сказал:
— В Европе, милостивец, попахивает порохом! Надо ждать войны…
— А как же мы, ксендз прелат? — заволновался Васарис, вспомнив, что второй раз уж слышит это пророчество.
— Ха… Откуда я знаю? Страшно будет, страшно… Многим придется бежать в Россию… Вам, молодым, с полбеды, а мы, старики, не переживем всего этого…
Вдруг прелата осенила какая-то новая мысль, и он даже хлопнул Васариса по плечу.
— Слушай, милостивец, что мне пришло в голову. Если начнется война, валяй-ка ты в Россию и поступай в академию. Разрешение епископа я тебе выхлопочу. Обойдемся здесь и без тебя. Есть талант — значит, надо учиться.
Васарис затрепетал от этих слов. Ужасная угроза войны несла ему светлую надежду, а может быть, и освобождение. Он и сам не знал, страшиться ли ему войны или радоваться представляющейся возможности уехать. Но все это казалось ему еще нереальным. Васарис простился с прелатом, так ничего и не выяснив.
Как всегда, он зашел и к госпоже Бразгене. Люция показала ему сына и принялась подробно рассказывать о том, как быстро он растет и каким становится умником…
Тревожные известия и пророчества прелата уже дошли и до Бразгиса. Жене он ничего не говорил, не желая заранее пугать ее, но когда она вышла принести кофе, не утерпел и поделился с Васарисом своими тревогами.
— Если, действительно, начнется война, — говорил он, — меня мигом мобилизуют. Винтовку брать мне, конечно, не придется, но в действующей армии врач подвергается тем же опасностям, что и солдат. Страшно и подумать, что тогда будет с Люце и Витукасом.
— Э, доктор, — успокаивал его Васарис, — все эти предположения насчет войны скорее всего окажутся вздором. Можете вы вообразить себе войну в Европе, где всюду сплошь города и деревни, где на каждом шагу кишмя кишат люди?
— На то и война, чтобы поменьше было этого кишенья. Верно, вообразить трудно, но если прелат Гирвидас вбил себе это в голову, то, видимо, опасность серьезная. Он умный человек и хороший политик. Если меня возьмут на войну, Люците с Витукасом придется перебраться к канонику Кимше.