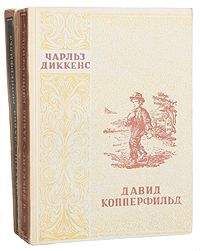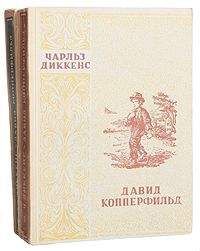Продолжайте, дорогой сэр, свою работу! Здесь знают вас, здесь ценят ваш талант. Продолжайте же свой орлиный полет! Жители порта Мидльбей жаждут следить за ним с восторгом, интересом, с великой пользой для себя!
Среди глаз, устремленных на вас с этого полушария, всегда, пока не закроются навеки, будут и глаза судьи Вилькинса Микобера».
Просматривая мидльбейскую газету, я убедился, что мистер Микобер является ее деятельным, почитаемым сотрудником и корреспондентом. В этом же номере было его другое письмо относительно какого-то моста. В объявлениях я нашел сообщение о том, что скоро должен был выйти из печати том его корреспонденций, появлявшихся в этой же газете, причем указывалось на то, что автором будут сделаны значительные добавления. Передовая статья в газете, если я не ошибаюсь, также была произведением его пера.
Мы не раз говорили еще о мистере Микобере в те многие вечера, которые провел с нами мистер Пиготти. Старик прожил с нами все время, какое пробыл в Англии, — кажется, что-то около месяца. Сестра его и моя бабушка приезжали в Лондон, чтобы с ним повидаться. Мы с Агнессой простились со стариком на палубе отплывающего корабля. Прощаясь, мы прекрасно знали, что больше с ним на земле не встретимся.
Перед его отплытием мы с ним съездили в Ярмут, чтобы взглянуть на плиту, которую я заказал на могилу Хэма. В то время как я, по поручению старика, списывал простую надгробную надпись, высеченную на плите, я заметил, что он нагнулся и взял с могилы немного земли и травы.
— Это для Эмми, я обещал ей, мистер Дэви, — пояснил старик, кладя пакет с землей и травой в боковой карман.
Глава XXXV
ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД, БРОШЕННЫЙ В ПРОШЛОЕ
Мое повествование приходит к концу. Но, прежде чем закончить, мне хочется еще раз — уже последний раз — заглянуть в прошлое.
Я вижу себя рядом с Агнессой странствующим по жизненному пути, вижу вокруг себя наших детей, наших друзей слышу голоса людей, близких мне…
Какие же образы яснее всего вырисовываются среди этой, проносящейся мимо меня толпы? Вот они сами оборачиваются ко мне.
Тут моя бабушка — в очках, более сильных, чем прежде, она старушка восьмидесяти лет с лишним, но все еще держится прямо, и ей ничего не стоит в зимний день пройти пешком шесть миль.
Всегда вместе с ней передо мной появляется и моя добрая старая няня, тоже в очках. Она со своей работой усаживается поближе к лампе. И всегда подле нее, как бывало, лежит кусочек восковой свечки, сантиметр в своем домике и рабочий ящичек с изображением собора св. Павла на крышке. Щеки и руки моей Пиготти, которые в детстве казались мне такими твердыми и красными, что я удивлялся, почему птицы не клюют их, предпочитая яблоки, теперь покрыты морщинами. Глаза ее, когда-то такие черные и блестящие, теперь потускнели, и только ее шершавый палец, казавшийся мне в детстве теркой, остался совершенно таким же, и, когда я вижу, как мое младшее дитя, ковыляя нетвердыми шажками от бабушки к моей старой няне, хватается своей ручонкой за этот шершавый палец, я мысленно переношусь в нашу маленькую гостиную в «Грачах», где я сам когда-то учился ходить. Бабушка удовлетворена: она теперь крестная мать настоящей, живой Бетси Тротвуд, и Дора, следующая дочь за нею, уверяет, что бабушка слишком балует ее…
А что топорщится в кармане моей Пиготти? — Это не что иное, как книга о крокодилах! Она теперь в довольно жалком виде, многие листы ее изорваны и истрепаны, но Пиготти показывает ее моим детям, как драгоценную реликвию. И мне так странно видеть перед собой свое собственное детское личико, выглядывающее из-за книги о крокодилах. Оно напоминает мне моего старого знакомого — Брукса из Шеффильда.
Вот в летние каникулы я вижу среди своих мальчиков старичка. Он делает для них огромный змей и, запуская его, глядит в небо в неописуемом восторге. При встрече со мной старичок радостно здоровается и, многозначительно подмигивая и кивая головой, говорит:
— Тротвуд, вам приятно будет узнать, что я решил теперь кончить свои мемуары, а также то, сэр, что ваша бабушка — самая замечательная женщина на свете.
А кто эта сгорбленная дама, опирающаяся на палку? Я вижу на ее лице, на котором душевное расстройство наложило печать слабоумия, следы былой красоты и гордости. Дама сидит в саду, и рядом с ней сухая, увядшая брюнетка с белым шрамом на губе. Послушаем, о чем они говорят.
— Роза, я забыла имя этого джентльмена.
Роза наклоняется к ней и говорит:
— Мистер Копперфильд.
— Я рада видеть вас, сэр, — обращается ко мне дама, — но мне очень грустно видеть вас в трауре. Надеюсь, время залечит ваши раны.
Ее спутница с раздражением объясняет ей, что я вовсе не в трауре, и вообще старается вразумить ее.
— Видели ли вы, сэр, моего сына? — спрашивает меня старая дама. — Примирились ли вы с ним?
Она пристально смотрит на меня, хватается рукой за голову и начинает стонать. Вдруг она кричит страшным голосом: — Роза, сюда! Ко мне! Он умер!
Роза бросается перед нею на колени и то ласкает ее, то бранит, то уверяет, что любила ее сына гораздо больше ее самой, то убаюкивает ее на своей груди, словно больного ребенка. Вот в таком состоянии я их оставляю и в таком же самом нахожу их всегда. Так из года в год эти две женщины влачат свое существование.
Какой это корабль приплыл из Индии, и кто эта английская леди, вышедшая замуж за старого, ворчливого, богатого, как Крез[40], шотландца с отвислыми ушами? Неужели это Джулия Мильс?
Да, это она, сварливая и нарядная. При ней состоит негр, подающий ей визитные карточки и письма на золотом подносе, и краснокожая служанка в белом полотняном платье и ярком платочке на голове, приносящая ей второй завтрак в туалетную комнату. Но Джулия теперь уже не ведет дневника и никогда не поет «похоронной песни любви». Она вечно ссорится со своим старым шотландским Крезом, похожим на желтого медведя с выдубленной шкурой. Джулия погрязла по горло в деньгах и ни о чем другом не говорит и не думает. Признаться, она больше мне правилась, когда пребывала и пустыне Сахаре.
Но, быть может, теперь-то и расстилается вокруг нее пустыня Сахара? Ведь, несмотря на то, что Джулия живет в роскошном доме, у нее огромное знакомство, она задает ежедневно роскошные обеды, я не вижу подле нее ни единого зеленеющего побега, ничего, что со временем могло бы расцвести и принести плоды. Вокруг нее я вижу только то, что Джулия называет «обществом». Среди него замечаю я и Джека Мелдона. Он до сих пор занимает место, купленное для него доктором Стронгом, что, однако, не мешает ему насмехаться над облагодетельствовавшей его рукой и, говоря со мной о докторе Стронге, называть его «очаровательной древностью». Если вы, Джулия, называете подобных пустых джентльменов и леди «обществом», а отличительной чертой этого общества является самое холодное равнодушие ко всему, что может двигать вперед или назад человечество, то, должно быть, мы с вами заблудились в этой самой Сахаре, и лучше было бы нам выбраться из нее.
А вот и сам доктор Стронг, с которым мы попрежнему друзья. Он продолжает трудиться над своим греческим словарем (как будто уже добрался до буквы «Д») и наслаждается с любимой женой безоблачным семейным счастьем. С ними живет Старый Полководец, но он значительно понизил свой тон и далеко не пользуется тем влиянием, каким пользовался в былые дни.
Наконец, я дошел до моего доброго старого друга Трэдльса. Он работает с деловым видом в своей конторе в Темпле. Волосы его (те, что еще не вылезли) торчат еще упрямее на голове благодаря постоянному трению об адвокатский парик. Письменный его стол завален грудами деловых бумаг. И, глядя на них, я говорю:
— Если бы Софи попрежнему служила вам секретарем, у нее не было бы недостатка в работе.
— Ваша правда, дорогой Копперфильд. А все-таки было чудесное время, когда мы жили с ней на адвокатском подворье! Не так ли?
— Это в те времена, когда Софи предсказывала вам, что вы будете судьей? — отозвался я. — Но тогда в городе еще не поговаривали об этом, как теперь.
— Во всяком случае, — сказал Трэдльс, — если когда нибудь я стану судьей…
— Да ведь вы прекрасно знаете, что будете им.
— Ну, так когда я стану судьей, Копперфильд, я всегда буду рассказывать, как Софи исполняла у меня обязанности секретаря!
Вот мы выходим с Трэдльсом под руку из его конторы. Я иду к нему на праздничный обед по случаю дня рождении Софи. Дорогой мой старый друг рассказывает мне о своих удачах.
— Знаете, дорогой Копперфильд, мне посчастливилось выполнить свое заветное желание: его преподобию отцу Горацию назначена пожизненная пенсия в четыреста пятьдесят фунтов стерлингов в год. Наши оба сына получают наилучшее образование: они прекрасно учатся и отлично ведут себя. Три сестры Софи очень недурно вышли замуж. Три живут с нами. Остальные три после смерти миссис Крюлер ведут хозяйство в доме отца. Все девочки счастливы.