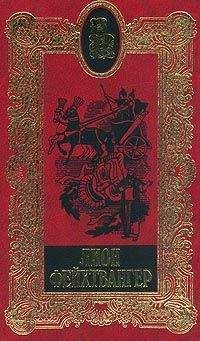Медленно поднимается процессия на небольшой холм. Перед Иосифом мерцает арка. Она достаточно высока, чтобы под ней можно было пройти с поднятой головой, но Иосифу кажется, что она так же низка, как иго поражения и позора: два копья, воткнутые в землю, третье сверху, так низко, что нужно нагнуться до самой земли. Он должен нагнуться. Снова должен он праздновать поражение своих иудеев, склониться перед победителем, отречься от своего народа. И если даже его унижение поможет этому народу, кто это увидит? Но то, что он отрекается от него, видят все, все эти десятки тысяч кругом на крышах, и его сын тоже видит.
Иосиф шагает в процессии, шаг за шагом. Он шагает по твердым плитам красивой формы, отполированным, по ним легко идти, дорога не длинна; до арки осталось, вероятно, не больше пятидесяти шагов. Трудные это будут пятьдесят шагов. Но он их пройдет, он склонится. Таково его решение, он со всех сторон обдумывал его в течение истекших трех страшных дней, – такова его миссия, и он взял ее на себя. Теперь он осуществляет ее, он идет для того, чтобы унизиться и отречься от своего народа.
Приятная погода, не жаркая, но Иосиф весь в поту, он очень бледен, все его тело словно опустошено. Он думал, что самое трудное – это ожидание. Он ошибся. Сколько шагов еще осталось? Сорок пять. Нет, теперь сорок. Поднять ногу, – разве у него свинец в подошвах? И он поднимает ногу. Он сжимает челюсти, скрипит зубами. Этого нельзя, окружающие могут услышать.
Вдруг в его воображении возникает человек по имени Валаам, великий волшебник и пророк среди язычников, который хотел проклясть народ Израиля, но Ягве перевернул слова в устах его так, что он должен был благословить этот народ. «Я – Валаам наоборот, – думает он. – Я иду, желая сделать добро моему народу, а всем кажется, что я предаю его». Чтобы легче было идти, он цепляется за стихи, за древние строки, которые Писание вложило в уста Валаама, за их ритм.
«Как прокляну я (шаг). Не проклинает его бог (шаг). И как изреку зло (шаг). Не изрекает зла господь (шаг). Вот с вершины скал вижу народ (шаг). Он живет отдельно (шаг) и между народами не числится (шаг). Кто исчислит песок Иакова (шаг) и множество Израиля (шаг). Как прекрасны шатры твои, Иаков (шаг), жилища твои, Израиль (шаг). Благословляющий тебя благословен (шаг). И проклинающий тебя проклят (шаг). Я вижу его (шаг), но он придет не сейчас (шаг). Я увидел его (шаг), но он далеко (шаг). Восходит звезда от Иакова».[142]
Теперь осталось, самое большее, двадцать шагов.
И вдруг, – это, конечно, указание сверху, – вокруг него образуется пустота, и в тесной процессии он идет совсем один. Ноги, до самых бедер, мертвенно-тяжелы; сейчас, как бы сильно он ни хотел этого, он уже не сможет поднять ногу. Но он поднимает ее. Его лицо при этом остается совсем спокойным; правда, он стискивает зубы с такой силой, что на щеках выступают желваки. И он поднимает ногу еще раз и еще раз, перед ним пустое пространство, и пустое пространство позади него.
Однако нет. За ним на небольшом расстоянии, передразнивай каждое его движение, идет карлик императора, толстый, волосатый, злобный, нелепый Силен.
Иосиф знает, все эти тысячи людей смотрят теперь только на него, ждут с насмешливым нетерпением, как он склонит шею под иго. Через мгновение поднимется пронзительный чудовищный свист и понесется по всему Риму. Точно ураган издевательства и смеха. «Как он согнулся! Как низко и по-рабски он согнулся! Какие пакостники и трусливые псы эти евреи! Какой трусливый пес этот еврей Иосиф!» И у ста тысяч евреев в Риме, а через две недели – у пяти миллионов евреев во всем мире исказятся лица, и все они будут проклинать его: «Как этот негодяй, Иосиф бен Маттафий, снова осквернил иудаизм и все еврейство! Какой негодяй и трусливый пес этот Иосиф бен Маттафий». И все, евреи и римляне, будут хихикать, издеваться, проклинать: «Хо, Иосиф, этот пес, хо, Иосиф, этот негодяй!»
Перед ним латинские буквы надписи на арке, скромная надпись вместо прежней, роскошной: «Сенат и народ римский – богу Титу, сыну бога Веспасиана». Он читает латинские слова, но одновременно возникает мысль по-арамейски: «Если бы можно было теперь остановиться, повернуть обратно. Как счастливы были те, кто некогда поднял оружие против Рима и убил Цестия Галла и его легион. Безумны были они и счастливы. Блаженны нищие духом, блаженны неразумные. Как счастлив был я сам, когда скакал по Галилее во главе повстанцев на своем коне Стрела. О моя сила, о моя радость, о моя молодость, и ведь я еще не стар».
Теперь его отделяет от арки только несколько шагов. Он уже видит на внутренних стенах ненавистные изваяния, оба прославленные барельефа, с одной стороны – взятая из храма утварь, очень высоко, с другой – Тит на триумфальной колеснице. Уже за аркой открывается Капитолийский храм на другом конце Священной дороги, вновь воздвигнутый в честь Юпитера на деньги побежденных евреев; Рим торжествует победу над Иудеей.
В это мгновение он замечает на трибуне, перед узким зданием «Новой монеты», лицо своего сына Павла. Оно тут же исчезает в потоке других лиц, но Иосиф видел его вполне отчетливо, смугло-белое, узкое, почти прозрачное и при этом искаженное ненавистью и презрением. Он видел и то, что рот Павла, против обыкновения, широко открыт. Да, так и есть, его сын Павел кричит вместе с остальными. Нет, не то, что остальные. Они ликуют: «О ты, всеблагой, величайший император и бог Тит!» Его же сын Павел, – Иосиф знает это наверное, – кричит: «Мой отец негодяй, мой отец пес!» И его лицо искажено и ужасно.
Иосиф стоит перед аркой. На мгновение крики кругом стихают; и процессия, и тысячи зрителей застыли в ожидании. Иосифа охватывает непреодолимое желание остановиться, повернуть обратно, ударить письменным прибором по отвратительной роже карлика: «Бог потребовал, – говорит в нем что-то в это бесконечно долгое мгновение, – чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Принести своего сына в жертву можно. Но совершать такие поступки, чтобы лицо собственного сына исказилось, как исказилось лицо Павла, – это превосходит человеческие силы, этого нельзя требовать ни от одного отца».
«Нет, – говорит что-то в нем, – я этого не могу. Все мое тело горит, передо мной огонь, и за мною вода, и я больше не пойду вперед, я сейчас поверну обратно.
Вздор, откуда я знаю, что Павел кричал? Он кричал потому, что кричали все остальные, и каждое лицо искажается от крика. Я внушаю это себе, потому что ищу оправдания, потому что мне хочется повернуть обратно. Замечательно было бы повернуть обратно. Исцелением и прохладой было бы это; сладостно и почетно было бы это».
«Преступным неразумием было бы это, – резко отвечает он себе. – Нелегко быть разумным, и за это не получаешь награды. Но разум – первородный сын божий, и я привержен ему».
И вот гражданин вселенной, Иосиф бен Маттафий, прозванный Иосифом Флавием, зная, что он навсегда растоптал уважение римлян и евреев и навсегда растоптал любовь своего сына Павла, взял свое сердце обеими руками, собрал всю свою волю и сделал последний шаг. Низко, как того требовал обычай, склонил он покрытую голову, поднес руку к бородатому еврейскому рту, послал изображению обожествленного Тита воздушный поцелуй и прошел под сводами арки, – над ним и по обе стороны его были видны торжествующая богиня Рима, триумфальная колесница императора, опозоренные пленные евреи.
А за ним шел карлик Силен и передразнивал каждое его движение.
Здесь кончается второй из трех романов об историке Иосифе Флавии.
Веспасиан умер 23 июня 79 г. н.э.
Свитки торы переписывались с соблюдением весьма многочисленных и сложных и чрезвычайно жестких правил. Регламентировано буквально все: материал для свитка, его размеры, цвет чернил, число букв и строке, ширина полей, промежутки между строками и между двумя смежными книгами и т.д. и т.п. Ничего нельзя писать на память, всякое слово следует сначала произнести и лишь потом изобразить на пергаменте. Прежде чем написать имя бога, писец всякий раз говорит: «Я намерен написать святое имя». Нарушение любого из правил и ошибки переписчика делают свиток негодным для публичного чтения или даже запрещенным к употреблению. Но и такие свитки не выбрасывались, а сохранялись вместе с обветшавшими в особой кладовой – «генизе», а когда гениза наполнялась, все ее содержимое вывозили на кладбище и торжественно предавали земле.
Первый в истории специально еврейский налог, введенный Веспасианом после разрушения Иерусалима: все евреи империи должны были платить две драхмы в год (прежде взимавшиеся в пользу Иерусалимского храма) на нужды храма Юпитера Капитолийского в Риме.
Нардовый бальзам – масло, добывавшееся из корней благовонного растения нарда и ценившееся очень высоко.