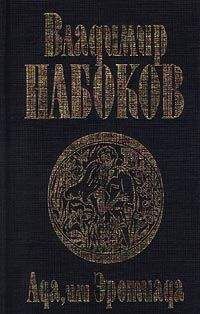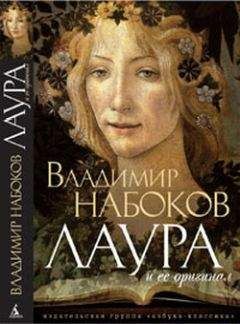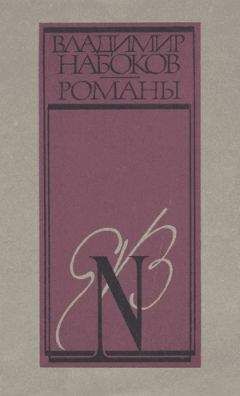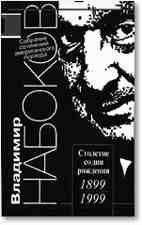— Она одарила тебя щедрой улыбкой трущоб! — заметила Люсетт, поправляя зеленую купальную шапочку трогательно изящными движениями воздетых лопаток и трогательно посверкивая желтовато-бурым оперением подмышек.
— Пойдешь со мной, а? — спросила Люсетт, вставая с мата.
Глядя на нее снизу вверх, Ван мотнул головой и сказал:
— Ты поднимаешься словно Аврора!
— Первый его комплимент! — отметила Люсетт с многозначительным кивком, как бы призывая в свидетели невидимого слушателя.
Надев темные очки, он следил, как она встает на край прыжковой доски, как втягивает внутрь живот под резко проступившими ребрами, готовясь сорваться стрелой в янтарь бассейна. Мысленно спросил себя, в виде сноски, как бы просто так, — если темные очки, да и прочие приспособления для глаз, несомненно, искажают наше представление о «пространстве», не влияют ли они также и на манеру нашей речи. Две ладненькие девчушки, их нянька, похотливый водяной, плавательных дел мастер — все смотрели туда же, куда и Ван.
— А вот и второй комплимент! — сказал Ван, когда Люсетт вернулась к нему. — Ты — божественная прыгунья. Я, например, вхожу в воду с неуклюжим всплеском.
— Но ты быстрей плаваешь! — посетовала Люсетт, спуская бретели и ложась на живот. — Между прочим (by the way), правда ли, что моряков при жизни этого Тобакофф не учили плавать, чтоб смерть стала менее мучительной, если корабль идет ко дну?
— Возможно, простых моряков — нет, — сказал Ван. — Когда же сам мичман Тобакофф пережил крушение у Гавайя, он преспокойно плыл себе и плыл, отпугивая акул зычными старыми куплетами и всякой такой дребеденью, пока наконец его не подобрала рыбацкая лодка, — вот тебе одно из тех чудес, которое, на мой взгляд, возможно при минимальной спайке всех сопричастных.
Демон, сказала Люсетт, в прошлом году во время похорон поделился, что собирается купить остров в архипелаге Гавай («неисправимый мечтатель» — процедил Ван). Он «исторг фонтан слез» в Ницце, но рыдал еще пуще на предыдущей церемонии, в Валентине, где Марина также присутствовать не могла. Венчание — если угодно, по православному обычаю — напоминало плохое, фальшивое старое кино, батюшка — кретин, а дьякон — пьян, и — к счастью, пожалуй, — за плотной белой вуалью Ады, как под вдовьим трауром, оказалось совершенно не видно ее лица. Ван сказал, что слушать этого больше не желает.
— Нет уж, послушай! — парировала Люсетт. — Хотя бы потому (if only because), что один из ее шаферов (неженатых мужчин, которые поочередно держат венец над головою невесты) своей бесстрастностью в профиль и наглыми манерами (все норовил повыше задрать тяжелый металлический венец, так высоко вздымал его атлетическим жестом, словно нарочито хотел отвести подальше от ее головы) до того был похож на тебя, будто твой бледный, дурно выбритый двойник, посланец твой Бог весть откуда.
Из местечка с прелестным названием Агония, что в Терра дель Фуэго[467]. Он ощутил ужасающий трепет, вспоминая, как, получив там приглашение на бракосочетание (отправленное воздушной почтой той самой жуткой жениховой сестрицей), несколько ночей не мог избавиться от вереницы кошмарных снов, с каждым разом становившихся все тусклее (как и воздействие фильма с нею, который он на дальнейшей стадии своей жизни все смотрел и смотрел по разным кинозалам), и ему снилось, будто держит над нею венец.
— Отец твой, — добавила Люсетт, — заплатил фотографу из «Белладонны», чтоб сделал фото, — но, разумеется, истинная слава приходит только тогда, когда имя появится в кроссворде-головоломке этого вестника кино. А такому, все мы знаем, никогда не бывать, никогда, никогда! Ну что, ненавидишь меня?
— Да нет, — ответил Ван, проводя рукой по ее прогретой солнцем спине и почесывая ей копчик, чтоб киска урчала. — Увы, нет! Я вас люблю любовью брата иль, может быть, еще сильней. Хочешь, закажу прохладительного?
— Хочу, чтоб не отвлекался! — промурлыкала она, уткнувшись носом во вздутое изоголовье.
— Вон официант идет! Что будем пить — «гонолулики»?
— Это ты с мисс Кондор{154} (произнося первый слог в нос) выпьешь, когда я пойду переодеваться. Мне чай и больше ничего. Нельзя таблетки мешать с алкоголем. Наверное, где-то среди ночи придется воспользоваться одной из хваленых робинсоновских пилюль. Среди ночи где-то.
— Прошу вас, два чая!
— И побольше бутербродов, Джордж! Любых — с гусиной печенкой, с ветчиной!
— Что за гадкая манера, — заметил Ван, — называть вымышленным именем бедного лакея, который не может тебе ответить: «Слушаюсь, мадемуазель Кондор!» Кстати, последнее — наиболее удачный из известных мне франко-английских каламбуров.
— Но он и в самом деле Джордж! Он был чрезвычайно обходителен вчера, когда меня стошнило прямо посреди чайной залы.
— Сладкой все в сладость! — пробормотал Ван.
— Да и Робинсоны тоже, — продолжала стрекотать Люсетт. — Маловероятно, правда же, что они сюда заявятся? Так и таскаются, весьма трогательно, за мной хвостом с того момента, как по пути на лайнер во время обеда в вагоне-ресторане мы случайно оказались за одним столом, и я, сообразив кто они такие, решила, что во мне они не признают девочку-толстушку, которую видели году в восемьсот восемьдесят пятом или шестом, а они своими разговорами задурили мне голову — мы сперва решили, что вы француженка, семга необыкновенно вкусна, так откуда вы родом? — а мне запудрить мозги нетрудно, вот так одно за другое… Молодые изменчивость времени подмечают быстрей, чем люди солидные, пожилые, которые сами перестают быстро меняться, ну а как меняются молодые, тем более давно не виденные, им видеть редко приходится.
— Исключительно верно, дорогая, — сказал Ван, — если отбросить то обстоятельство, что само по себе время недвижимо и неизменно.
— И правда: я на твоих коленях всегда, это дорога бежит назад. Дороги движутся?
— Движутся!
Выпив чай, Люсетт вспомнила, что ей надо к парикмахеру, и в спешке умчалась. Ван стянул с себя джемпер и полежал еще немного в раздумье, перебирая пальцами маленький, в зеленых изумрудах, портсигар с пятью сигаретками «Лепестки розы», пытаясь насладиться жаром платинового солнца в его ореоле «техниколора», но добился лишь того, что с каждой конвульсией и с каждым вздыманием корабля, злобный пламень искушения разгорался все сильней.
Через мгновение, словно отследив его одиночество, вновь явилась пава (peahen) — на сей раз с извинениями.
Обходительный Ван, вскакивая на ноги и вскидывая на лоб очки, принялся извиняться в свою очередь (в том, что невольно ввел ее в заблуждение), но краткий монолог оборвался ступором, едва Ван, взглянув на нее, увидел незабвенные черты в вульгарном, гротескно-карикатурном изображении. Смуглая кожа, серебристо-пепельные волосы, пухлые лиловые губы грубым негативом представили ее матовость, ее вороненость, ее выпуклый, бледный рот.
— Говорят, — пояснила пава, — мой закадычный друг Вивиэн Вейл, кутурэй — вузавэй entendue[468]? — сбрил бороду и в таком случае должен весьма походить на вас, это так?
— Логическая ошибка, мэм! — отвечал Ван.
Она замешкалась на долю секунды, проводя языком по губам, прикидывая, грубость ли это или готовность с его стороны — но тут вернулась Люсетт за своими «Лепестками розы».
— Увидимся апрей[469]! — сказала мисс Кондор.
Взгляд Люсетт с облегчением проводил до самого исчезновения ленивое перекатывание ягодичных полушарий и складок.
— Ты обманщик, Ван! Это она, это все-таки одна из твоих кошмарных девиц!
— Клянусь, — сказал Ван, — понятия не имею, кто она! Не собирался тебя обманывать.
— Ты врал мне много-много раз, когда я была еще ребенком. Если поступаешь так и сейчас, tu sais que j'en vais mourir[470].
— Ты ж обещала мне гарем! — с мягким упреком сказал Ван.
— Не сегодня, не сегодня! Сегодня — святое!
Вместо щеки, к которой он потянулся, она мгновенно подставила ему неистовые губы.
— Пойдем ко мне в мою каюту! — умоляюще произнесла она, когда он отбросил ее назад пружинной отдачей звериного отклика на пламень ее губ и языка. — Хочу просто показать тебе их подушки и рояль. Из каждого ящика несет Кордулой! Умоляю, пойдем!
— Теперь убирайся! — сказал Ван. — Ты не имеешь никакого права так меня возбуждать! Если не будешь вести себя как следует, найму себе в спутницы мисс Кондор. В семь-пятнадцать встретимся за ужином.
У себя в спальне Ван обнаружил несколько запоздалое приглашение капитана отужинать за его столиком. Приглашение было адресовано «Д-ру и миссис Вин». В промежутке между плаваньем на «Королеве» Ван пользовался этим судном, и капитан Койли запомнился ему как скучнейший, малообразованный субъект.