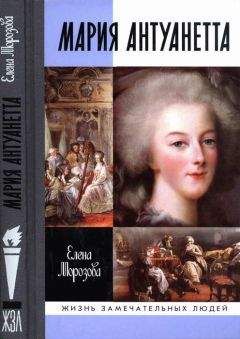***
Громадная площадь Революции, теперешняя площадь Согласия, черна от народа. Десятки тысяч людей на ногах с самого раннего утра, чтобы не пропустить редчайшее зрелище, увидеть, как королеву - в соответствии с циничными и жестокими словами Эбера - "отбреет национальная бритва". Толпа любопытных ждет уже много часов. Болтают с хорошенькой соседкой, смеются, обмениваются новостями, покупают у разносчиков газеты или листки с карикатурами, перелистывают только что появившиеся брошюры "Les Adieux de la Reine a ses mignons et mignonnes"[204] или "Grandes fureurs de la ci-devant Reine"[205]. Загадывают, шепчутся, чья голова завтра или послезавтра упадет здесь в корзину, пьют лимонад, жуют бутерброды, грызут сухари, щелкают орехи. Представление стоит того, чтобы подождать его.
Над этой сутолокой волнующейся черной массы любопытствующих, среди тысяч и тысяч живых людей, недвижно возвышаются два безжизненных силуэта. Тонкий силуэт гильотины, этого деревянного мостика, перекинутого из земного мира в мир потусторонний; на ее перекладине в свете скупого октябрьского солнца блестит провожатый - остро отточенное лезвие. Легко и свободно рассекает оно серое небо, забытая игрушка зловещего божества, и птицы, не подозревающие о мрачном назначении этого жестокого сооружения, беззаботно летают вокруг него.
Но сурово и гордо рядом с этими вратами смерти на постаменте, ранее служившем для памятника Людовику XV, возвышается гигантская статуя Свободы. Невозмутимо сидит она, неприступная богиня с фригийским колпаком на голове, с мечом в руке; вот сидит она, каменная, в застывшей неподвижности, богиня Свободы, грезящая, погруженная в глубокую задумчивость. Невидящими глазами смотрит она поверх толпы, вечно волнующейся у ее ног, смотрит на стоящую рядом с ней машину смерти, вглядываясь в делкое, невидимое. Ничто человеческое не тревожит ее, ни жизни, ни смерти не замечает она вокруг себя, непостижимая, вечно любимая каменная богиня с грезящими о чем-то глазами. Не слышит она криков тех, кто взывает к ней, не чувствует тяжести венков, которые кладут ей на каменные колени; кровь, пропитавшая землю у ее ног, безразлична ей. Чужая среди людей, сидит она немая и смотрит вдаль, поглощенная извечной думой о своей никому не ведомой цели. Ничего не спрашивает она и ничего не знает о том, что вершится ее именем.
Внезапно в толпе возникает движение, на площади сразу же становится тихо. И в этой тишине слышны дикие крики, несущиеся с улицы Сент-Оноре; появляется отряд кавалерии, из-за угла крайнего дома выезжает трагическая телега со связанной женщиной, некогда бывшей владычицей Франции; сзади нее с веревкой в одной руке и шляпой в другой стоит Сансон, палач, исполненный гордости и смиренно-подобострастный одновременно. На громадной площади мертвая тишина, слышно лишь тяжелое цоканье копыт и скрип колес. Десятки тысяч, только что непринужденно болтавшие и смеявшиеся, потрясены чувством ужаса, охватившего их при виде бледной связанной женщины, не замечающей никого из них. Она знает: осталось одно последнее испытание! Только пять минут смерти, а потом - бессмертие.
Телега останавливается у эшафота. Спокойно, без посторонней помощи, "с лицом еще более каменным, чем при выходе из тюрьмы", отклоняя любую помощь, поднимается королева по деревянным ступеням эшафота, поднимается так же легко и окрыленно в своих черных атласных туфлях на высоких каблуках по этим последним ступеням, как некогда по мраморной лестнице Версаля. Еще один невидящий взгляд в небо, поверх отвратительной сутолоки, окружающей ее. Различает ли она там, в осеннем тумане, Тюильри, в котором жила и невыносимо страдала? Вспоминает ли в эту последнюю: в эту самую последнюю минуту день, когда те же самые толпы на площадях, подобных этой, приветствовали ее как престолонаследницу? Неизвестно. Никому не дано знать последних мыслей умирающего. Все кончено. Палачи хватают ее сзади, быстрый бросок на доску, голову под лезвие, молния падающего со свистом ножа, глухой удар - и Сансон, схватив за волосы кровоточащую голову, высоко поднимает ее над площадью. И десятки тысяч людей, минуту назад затаивших в ужасе дыхание, сейчас в едином порыве, словно избавившись от страшных колдовских чар, разражаются ликующим воплем. "Да здравствует Республика!" - гремит, словно из глотки, освобожденной от неистового душителя. Затем люди поспешно расходятся. Parbleu![206] Действительно, уже четверть первого, пора обедать; скорее домой. Что торчать тут! Завтра, все эти недели и месяцы, почти каждый день на этой самой площади можно еще и еще раз увидеть подобное зрелище.
Полдень. Толпа расходится. В маленькой тачке палач увозит труп с окровавленной головой в ногах. Двое жандармов остались охранять эшафот. Никого не заботит кровь, медленно капающая на землю. Площадь опустела.
Лишь богиня Свободы, силой какого-то волшебства превращенная в белый камень, остается, неподвижная, на своем месте и смотрит, смотрит вдаль, поглощенная извечной мыслью и своей никому не ведомой цели. Ничего не видела она, ничего не слышала. Сурово смотрит она в бесконечную даль, поверх диких и безрассудных деяний людей. Ничего не знает она и ничего не хочет знать о том, что вершится ее именем.
Слишком много происходит в эти месяцы в Париже, чтобы долго думать о чьей-либо смерти. Чем быстрее бежит время, тем короче становится людская память. Несколько дней, несколько недель, и в Париже уже почти совсем забыли, что некая королева Мария Антуанетта была обезглавлена. На следующий день после казни Эбер в своем листке "Папаша Дюшен" поднимет вой: "Я видел, как голова этой бабы свалилась в корзину, и я хотел бы, проклятье, описать удовольствие, испытанное санкюлотами, которые наконец-то оказались свидетелями того, как эта тигрица проследовала через весь Париж в телеге живодера... Проклятая голова наконец-то была отделена от шеи потаскухи, и воздух сотрясся - черт побери - от криков: "Да здравствует Республика!" Но его едва ли кто слушает: в годы террора каждый дрожит за свою голову. Пока же непогребенный гроб стоит на кладбище, для одного человека могилу теперь не роют, это было бы слишком накладно. Ждут подвоза от старательной гильотины и, лишь собрав шесть десятков гробов, гроб Марии Антуанетты заливают негашеной известью и вместе с остальными бросают в общую могилу.
Вот и все. В тюрьме еще несколько дней воет маленькая собачка королевы, беспокойно бегает из камеры в камеру, обнюхивает все углы, прыгает по матрацам в поисках своей госпожи; затем и она успокаивается, тюремный сторож, пожалев, берет ее к себе. Потом в муниципалитет приходит могильщик и предъявляет счет: "Шесть ливров за гроб для вдовы Капет, 15 ливров 35 су за могилу и могильщикам". Затем служитель при суде собирает несколько жалких платьев королевы, составляет акт и отправляет их в лазарет; бедные старухи носят их, не зная, не спрашивая, кому они принадлежали раньше. Таким образом для современников покончено со всем, что было связано с именем Марии Антуанетты, и когда несколько лет спустя один немец приезжает в Париж, то во всем городе не находится человека, который смог бы ему сообщить, где похоронена бывшая королева Франции.
И по ту сторону границ казнь Марии Антуанетты - ведь эту казнь предвидели - не вызывает сильного волнения. Герцог Кобургский, слишком трусливый, чтобы спасти ее, приказом по армии патетически провозглашает месть. Граф Прованский, с этой казнью очень сильно приблизившийся к осуществлению своей столь вожделенной мечты стать королем - теперь бы только это мальчика, который сейчас находится в Тампле, упрятать куда-нибудь или устранить, - делает вид, будто глубоко взволнован, и дает указание отслужить заупокойную мессу. Император Австрии, которому даже письмо написать было лень ради спасения королевы, объявляет глубокий придворный траур. Дамы одеваются в черное, их императорские величества несколько дней не посещают театр, газеты, как им приказано, с большим негодованием пишут о жестоких парижских якобинцах. Император оказывает милость и принимает бриллианты, которые Мария Антуанетта доверила Мерси, а спустя некоторое время - и дочь ее в обмен на взятых в плен комиссаров; но когда дело доходит до погашения долговых обязательств королевы и возмещения сумм, затраченных на попытки спасти ее, венский двор внезапно становится глухим. Вообще здесь не очень любят вспоминать о казни королевы, эти воспоминания некторым образом угнетают императорскую совесть - уж очень некрасиво по отношению к своей ближайшей родственнице вел себя император. Несколько лет спустя Наполеон заметит: "В Австрийском доме соблюдалось непременное правило - хранить глубокое молчание о королеве Франции. При упоминании имени Марии Антуанетты отводят глаза и разговору дается другое направление, чтобы уйти от неуместной, неприятной темы. Это - неукоснительное правило всей семьи, ему следуют также послы Австрийского дома при иностранных дворах".