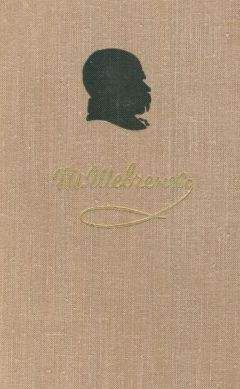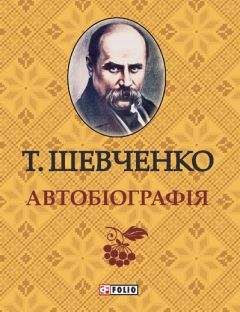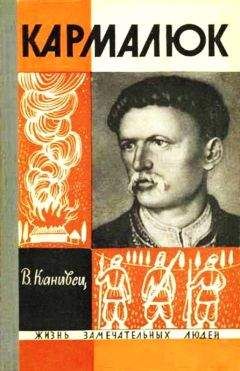Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в гостином дворе ивановского полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я, по обыкновению, нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля — немедленно явиться к пригонке амуниции.
— Да ее недавно пригоняли, — говорю я.
— Не могу знать-с: приказано, — отвечает он.
Итак, для воскресенья не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев{84}, заведующий двумя ротами I батальона, тотчас смекнув дело, и, чтобы не ударить в грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого, по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнатъ амуницию и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его сподвижника писаря Петрова.
Сказано — сделано. К 7 часам все было готово. В полной амуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я; в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем своем ослином величии и, после горделивого приветствия, подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал:
— Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом — и с богом!
И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.
Тот же самый татарин вместе с накладной привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев{85} получил известие из Петербурга, чтобы его высочества в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня, по обыкновению, в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и занес сей невероятный казус в мою верную хронику… Господи, настанет ли, наконец, для меня час искупления! Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу?
8 [июля]Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или четверг она должна быть на Стрелецкой косе, 15 верст от Гурьева, в субботу получит последнюю оренбургскую почту, воскресенье попразднует и в понедельник — в обратный путь. Как раз через неделю, при благополучном ветре, ее должно ожидать 17-го или 18-го числа, и никак не дальше 20-го. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы уже умышленное тиранство.
Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтер-офицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска «Umnictwo piekne» Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на батальоне и в особенности на 2 роте, которая два года назад тому ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда и теперь я имею несчастье состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика Обрядина, мы перебрали всю роту поодиночке и, наконец, дошли до рядового Скобелева. Этот рядовой Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии, и в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:
Тече річка невеличка
3 вишневого саду.
Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я некогда не забуду этого смуглого, полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.
По сложению своему и по манерам он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал, но он пользовался в роте славою честного и смышленого солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилась отвага и благородство, И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин, попался в бродяжничестве, сказался непомнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура «Русского инвалида» Скобелева{86}. Так об этом-то бедняге Скобелеве Кулих мне рассказал следующую возмутительную повесть.
Вскоре по прибытии 2 роты в г. Уральск командир роты поручик Обрядин взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева, как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полгода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя, и однажды в минуту сердечных излияний коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно, по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И, в доказательство истины слов своих, показала ему конверт с пятью печатями. Поручик же Обрядин, будучи еще батальонным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но и даже был уличаем в краже подобных присылок, но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках требовать вынутых из него денег. Отец-командир попотчевал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой. Будь это сам-на-сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благорожденных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал батальонному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.
Бедный Скобелев! Родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль {87} (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление), залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из Украины, как будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напомнить мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев! Ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору-грабителю, и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных, сладких песен, как я был? Встретишь — и не одного такого же, как и ты, невольника-сироту, земляка варнака, заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кайданы за отрадные сердцу, милые, родные звуки… Бедный, несчастный Скобелев!
9 [июля]Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от норд-оста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь; а когда подымет — бог знает. Норд-ост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлить мою и без того длинную неволю далеко за предначертанную мною границу, то есть за 20 июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же, на песке, заснул. Видел во сне покойника Аркадия Родзянку{88} в его Веселом Подоле, близ Хорола; показывал он мне свой чересчур затейливый сад, толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности; ругал наповал грязного циника Гоголя и в особенности «Мертвые души» казнил немилосердно; потом потчевал какими-то герметически закупоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова. Отвратительный старичишка. Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я прибежал на огород мокрой курицей.