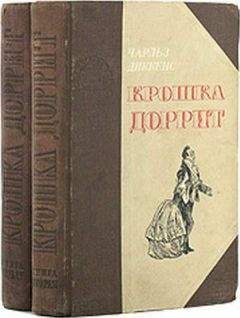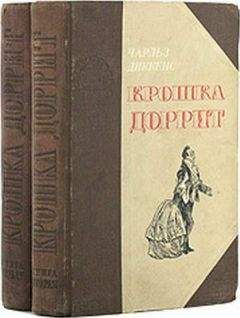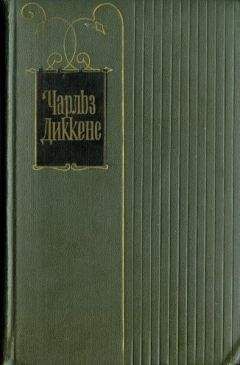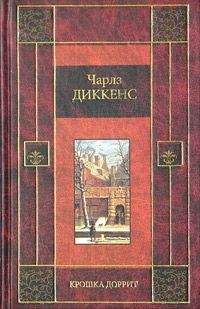Он устремил на нее пристальный взгляд и продолжал подниматься; она, точно околдованная, отступала шаг за шагом. Так она пятилась задом, а он шел вперед, пока они не очутились в спальне. Тут он сразу схватил ее за горло и тряс до тех пор, пока лицо ее не почернело.
— Ну, Эффри, женщина, Эффри! — сказал мистер Флинтуинч. — Что такое тебе приснилось? Проснись, проснись! В чем дело?
— В чем… дело, Иеремия? — прохрипела миссис Флинтуинч, вытаращив глаза.
— Ну, Эффри, женщина, Эффри! Ты встала с постели во сне, милая моя. Я тоже заснул внизу, а проснувшись, нашел тебя на лестнице, закутанную в халат. У тебя был кошмар. Эффри, женщина, — продолжал мистер Флинтуинч с дружеской усмешкой на выразительном лице, — если тебе еще раз приснится что-нибудь подобное, то, стало быть, ты нуждаешься в лекарстве. И я закачу тебе хорошую порцию, старуха, ха-арошую порцию!
Миссис Флинтуинч поблагодарила его и улеглась в постель.
Когда городские часы в понедельник утром пробили девять, Иеремия Флинтуинч, с наружностью удавленника, подкатил миссис Кленнэм к высокой конторке. Когда она отперла ее и открыла крышку, Иеремия удалился, может быть для того, чтобы повеситься как следует, и в комнату вошел сын.
— Лучше ли вам сегодня, матушка?
Она покачала головой с тем же выражением мрачного наслаждения, с каким говорила вечером о погоде.
— Мне никогда не будет лучше. Хорошо, что я знаю это, Артур, и могу покориться судьбе.
Сидя перед высокой конторкой, положив обе руки на пюпитр, она точно играла на немом церковном органе. Так подумал ее сын (это была давнишняя мысль), усаживаясь на стул подле нее.
Она открыла два-три ящика, достала какие-то бумаги и, просмотрев, положила их обратно. Ее суровое лицо всегда оставалось бесстрастным, не давая возможности наблюдателю проникнуть в мрачный лабиринт ее мыслей.
— Могу я говорить о наших делах, матушка? Вы ничего не имеете против делового разговора?
— Имею ли я что-нибудь против? Этот вопрос нужно предложить тебе. Год с лишним прошел после смерти твоего отца. С тех пор я к твоим услугам и жду, когда тебе будет угодно начать разговор.
— У меня было много дел перед отъездом, а затем я путешествовал, чтобы отдохнуть и развлечься.
Она обратила к нему лицо, точно не расслышав или не поняв его последних слов.
— Отдохнуть и развлечься…
Она обвела взглядом угрюмую комнату и, судя по движению губ, повторяла шёпотом эти слова, точно призывая всю окружающую обстановку в свидетели того, как мало ей достается отдыха и развлечения.
— Кроме того, матушка, вы были единственной душеприказчицей и сами распоряжались и заведовали состоянием, так что для меня оставалось очень мало дела, лучше сказать — вовсе не оставалось.
— Счета в порядке, — отвечала она. — Они здесь. Все документы проверены и утверждены. Ты можешь проверить их, Артур, если хочешь, хоть сейчас.
— Для меня совершенно достаточно знать, что дело покончено. Могу я продолжать?
— Почему же нет? — отвечала она ледяным тоном.
— Матушка, обороты нашей фирмы уменьшаются с каждым годом, и дела постепенно клонятся к упадку. Мы никогда не пользовались особенным доверием, и сами не выказывали доверия, у нас мало клиентов, наши приемы устарели, мы страшно отстали. Мне незачем входить в подробности. Всё это вы сами знаете, матушка.
— Я знаю, что ты хочешь сказать, — отвечала она, как бы уточняя его слова.
— Даже этот старый дом, где мы находимся, — продолжал он, — может служить примером. В свое время, при моем отце в его ранние годы и при его дяде, это был деловой дом, кипевший жизнью. Теперь он превратился в какую-то нелепую аномалию, устаревшую и бесцельную. Все наши операции давно уже совершаются при посредстве комиссионеров, господ Ровингэм, и хотя ваша опытность и энергия играли большую роль в контроле и управлении отцовскими делами, но то же самое могло бы быть, если бы вы жили в частном доме, не правда ли?
— Итак, — возразила она, не отвечая на его вопрос, — дом, который служит приютом твоей справедливо постигнутой болезнями и заслуженно удрученной горем матери, этот дом, по твоему мнению, никому не нужен, Артур?
— Я говорю только о деловых операциях.
— С какою целью?
— Сейчас объясню.
— Я вижу, в чем дело, — сказала она, устремив на него пристальный взгляд. — Но избави бог, чтобы я стала роптать. По грехам моим я заслуживаю горьких разочарований и принимаю их.
— Матушка, мне очень прискорбно слышать от вас такие речи, хотя, я боялся, что вы станете…
— Ты знал, что стану. Ты знаешь меня, — перебила она.
Ее сын остановился на минуту. Вызвав в матери эту внезапную вспышку, он сам удивился этому.
— Ну, — сказала она, возвращаясь к прежнему бесстрастию, — продолжай, я послушаю.
— Вы предвидели, матушка, что я откажусь от дел. Я покончил с ними. Не смею советовать вам; вы, я вижу, намерены продолжать. Если бы я мог иметь какое-нибудь влияние на вас, я постарался бы смягчить ваше мнение обо мне, ваш приговор, вызванный разочарованием, которое я вам причинил. Я напомнил бы вам, что, прожив полжизни, ни разу не выходил из вашей воли. Не скажу, что я душою и сердцем подчинялся вашим распоряжениям, не скажу, что эти сорок лет прожиты мною с пользой и удовольствием для себя самого или кого бы то ни было, но я покорился по привычке и прошу вас только не забывать этого.
Горе просителю, — если бы такой нашелся или мог найтись, — которого судьба заставила бы обратить взор на неумолимое лицо за конторкой. Горе преступнику, чье помилование зависело бы от трибунала, в котором председательствовали эти суровые глаза. Большим подспорьем для этой непреклонной женщины служила ее мистическая религия, окутанная мраком и мглой, с молниями проклятий, мести и разрушения, прорезавшими черные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим», — эта молитва казалась для нее лишенной смысла. «Истреби моих должников, господи, иссуши их, раздави их, сделай, как сделала бы я сама, и я поклонюсь тебе», — вот нечестивая башня, которую она думала воздвигнуть до небес.
— Кончил ты, Артур, или намерен сказать еще что-нибудь? Кажется, больше говорить нечего. Ты был краток, но содержателен.
— Матушка, мне есть что сказать еще. То, что я хочу сказать, давно уже не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Но высказать это гораздо труднее. То, о чем я говорил, касается нас всех.
— Нас всех? Кто это мы все?
— Вы, я, мой покойный отец.
Она сняла руки с пюпитра, скрестила их на груди и застыла в позе древней египетской статуи, устремив взгляд на огонь.
— Вы знали моего отца гораздо лучше, чем я его знал, его сдержанность со мною — дело ваших рук. Вы были гораздо сильнее его, матушка, и управляли им. Я знал это ребенком, как знаю теперь. Я знал, что ваше влияние заставило его отправиться в Китай и заниматься делами там, пока вы занимались ими здесь (хотя мне далее неизвестно, на каких именно условиях состоялась ваша разлука), и что по вашей же воле я оставался при вас до двадцати лет, а затем переехал к нему. Вы не обидитесь, что я вспоминаю об этом через двадцать лет?
— Я жду объяснения, зачем ты вспоминаешь об этом?
Он понизил голос и сказал с видимой неохотой и как бы против воли:
— Я хочу спросить вас, матушка, подозревали ли вы…
При слове «подозревали» она быстро взглянула на сына и нахмурилась, потом снова уставилась на огонь, но морщина осталась на ее лбу, точно скульптор древнего Египта нарочно вырезал ее на твердом граните.
— …что у него было какое-нибудь тайное воспоминание, камнем лежавшее на душе, возбуждавшее угрызения совести? Случалось вам замечать в его поведении что-нибудь, что могло бы внушить такую мысль, или говорить с ним об этом, или слышать от него что-нибудь подобное?
— Я не понимаю, какого рода тайну ты подозреваешь за своим отцом? — возразила она после некоторого молчания. — Ты говоришь так загадочно.
— Возможно, матушка, — сказал он шёпотом, наклонившись к ней поближе, — возможно, что он имел несчастье причинить кому-нибудь зло, оставшееся неисправленным.
Она гневно взглянула на него и откинулась на спинку кресла, но ничего не ответила.
— Я вполне сознаю, матушка, что если подобная мысль никогда не приходила вам в голову, то жестоко и противоестественно с моей стороны даже в интимном разговоре высказывать ее. Но я не в силах отделаться от этой мысли. Ни время, ни перемены (и того и другого было достаточно) не могли заставить меня забыть ее.
Вспомните, я жил с моим отцом. Вспомните, я видел его лицо, когда он отдал мне часы и просил переслать их вам как символ, значение которого вы понимаете. Вспомните, я видел его в последнюю минуту с пером в руках, которым он тщетно старался написать вам несколько слов. Чем темнее и мучительнее это смутное подозрение, тем сильнее обстоятельства, придающие ему вероятность в моих глазах. Ради бога, рассмотрим серьезно, нет ли зла, которое мы обязаны исправить. Никто не может решить этого, кроме вас, матушка.