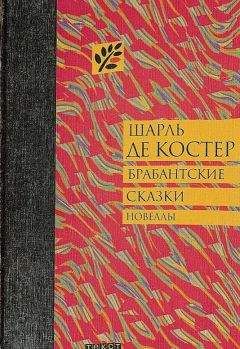— «Любовница хозяина». Его любовница, понимаешь, отец, у меня в доме, в этом убранстве, которое я мечтала превратить в священное царствие веселья и спокойствия духа. «Госпожа, спускайтесь потихоньку, — шепнула мне Каттау, — они внизу, в столовой». Я так и поступила, как сказала мне Каттау, и вот я спускаюсь, вхожу в прихожую, вижу лучик света, выбивающийся из-под двери, открываю, они сидели там, и она прижималась к нему. Фу! Они ужинали в моем доме, оба пьяные. На столе было полно еды и стояли бутылки. Ну и женщина! Размалеванная кукла, белая, опухшая, на щеках пятна румян, взгляд потухший и вызывающий, а уж жирна так, что в этом что-то нездоровое. Он со злостью оторвался от нее и окинул меня оскорбительным взглядом. «Зачем вы пришли, — говорит, — идите к себе спать!» Видя, что я не слушаюсь, он хотел было броситься на меня, но пошатнулся и едва не упал. Женщина, которая курила, растянувшись в кресле, бросила с ухмылкой: «Ну и ну, малыш, а ведь я думала, ты покрепче». — «Прочь, — крикнул он мне, — идите к себе, или я вас…» И он занес кулак. «Эге, малыш, — говорит женщина, — уж это совсем не по-джентльменски». — «Послушай же», — говорю я ему. «Послушать тебя, — взвился он, — как будто я не знаю, что ты мне скажешь, — ах, ты ревнуешь, не так ли, и тебе очень не нравится, что я привел сюда это восхитительное создание». — «Малыш, — говорит женщина, — да ты дурак». — «Ревную, — говорю я, — о нет, Исаак, ревность тут ни при чем, ибо ни за какое золото мира я не соглашусь больше ни минуты ни уважать, ни любить вас. С этого мгновения я считаю себя свободной, так что вернуться к вам меня не смогут заставить ни законы, ни суды». Он ухмылялся. «Я отдала тебе все, — продолжала я, — свою молодость, красоту, преданность, — все. Того, что я сделала, достаточно, я ничем тебе не обязана и ухожу от тебя без всякой ненависти, Исаак, желая тебе, если ты сможешь, обрести счастье в той жалкой жизни, которая тебя ждет». Он вмиг растерял весь свой гнев. «Вы что же это, — спросил он, — и в самом деле уходите?» — «Да, — отвечаю я, — и вы сами знаете, что так лучше». Он немного подумал. «Вы правы», — отвечал он. И вот я здесь, отец.
Через три дня к Херманну доставили письмо от Исаака, в котором он испрашивал развода по обоюдному согласию супругов.
На другой день Оттеваару принесли фламандскую Библию в поистине роскошном переплете. Такие издания обычно дарились в самых торжественных случаях. Обрез страниц был покрыт позолотой, а обложка сделана из черной кожи с пунцовой каймой. На первой странице чья-то рука, видимо дрожавшая от волнения, написала большими буквами:
«Анне Херманн, овечке моей, в день ее крещения, твой отец Йозефус дарит этого друга.
7 июля 1839».
Для Отгеваара не было секретом, что священная книга и вправду была другом Анны и ее спутником.
— Посмотрим, — решил он, — не прочту ли я здесь историю ее сердца.
И в самом деле, дата 29 ноября 1857 года — день, когда Анна получила от Оттеваара первое письмо, — была написана рядом со следующими строфами:
«На глазах у птиц напрасно расставляется сеть».
Другие многозначительные строки были отмечены рядом точек, проколотых швейной иглой:
«Творящий прелюбодеяние погубит душу свою в безумии сердца своего».
«Благонравная жена — венец для мужа своего».
«Кто найдет добродетельную жену?»
«Уверено в ней сердце мужа ее».
«Она воздаст-ему добром, а не злом».
«Милость и прощение даруют облегчение».
А над этой ужасной строфой были пролиты слезы:
«Все дни несчастного печальны».
Оттеваар вздрогнул.
Он прочел дальше:
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни».
Читая дальше, он заметил еще один омытый слезами стих:
«Вот долготерпеливый; что бы ни случилось, нет печали в сердце его.
В полу платья бросается жребий, но все решение его — от Господа».
Оттеваар перелистал и опять увидел подчеркнутое место:
«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был».
«Доколе?» — сам себя спросил Отгеваар.
Следующий стих словно бы отвечал ему загадочным утверждением:
«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце».
Тут следы слез.
Ноготь Анны выделил такие слова:
«Не из камня твердыня моя, и не из бронзы плоть».
Число 29 ноября 1860 года было написано на полях страницы, где были такие стихи:
«Время плакать и время смеяться.
Время любить и время ненавидеть.
Время сберегать и время бросать».
Просияв, Отгеваар сунул Библию под мышку и чуть не бегом отправился к Херманну.
Анна ждала его. Увидев, что он входит в дом, она указала на него отцу.
— Вот, — произнесла она, — тот, о ком я тебе рассказала.
Отгеваар вошел. Он направился сразу к ней, не обратив внимания ни на Брафа, ни на Херманна.
— Ты любишь меня? — спросил он.
— Да, — ответила она.
И рассказала обо всем, что произошло.
Оттеваар взял ее лицо в свои руки.
— Несчастная пленница, заживо погребенная в черной клетке, — сказал он, — вот и для тебя солнце взошло.
— И теперь там так светло, — ответила Анна, по-детски хлопнув себя по лбу.
— А случись тому, — спросил Херманн, — что Исаак не расторгнул бы ваших супружеских уз, — ты так и оставалась бы верной ему и уморила бы себя до погибели?
— Да, — твердо ответила Анна.
— Батюшка Херманн, — с воодушевлением кидаясь ему в ноги, промолвил Отгеваар, — желаешь ли ты, чтобы с этой минуты я был сыном твоим?
— И даже весьма желаю, — отвечал Херманн, — ведь я только что видел, как Браф-вещун лизал тебе руку. А это значит, что он дает согласие.
СМИРЕННОЕ ПРОШЕНИЕ КОМЕТЕ
Извещают, сударыня, что вы пожалуете к нам совсем скоро. Да неужто и вправду для того, чтобы разрушить наш маленький земной шарик и истребить всех суетящихся на его поверхности человечков? Неужто нам и вправду суждено еще лишь единожды узреть теплую весну, солнечный свет и красивые цветы? Вправду ли вы станете лупить без разбору и по добрякам, и по злодеям? Я отказываюсь верить, до того это было бы несправедливо с вашей стороны.
Я знаю столько добрых людей, достойных лучшей участи. Их великое множество, крестьян, рабочих, художников, ваятелей, музыкантов, поэтов, всех, кто зарабатывает на жизнь своими руками или головой, желая лишь одного — жить, покуда сердце бьется, и петь, покуда песня льется. Они любят вино, женщин и музыку; вовсе не желают причинять страдание кому бы то ни было, и случись им заметить под ногами беззащитное насекомое — отведут ногу налево ли, направо ли, лишь бы не давить его.
Они любят жизнь, совершенно не задумываясь о том, что их жцет после смерти, и наслаждаются солнечным светом и полевым цветом, нимало не беспокоясь о том, что там за гробовой доскою. Люди это бедовые, и стоит кому — нибудь из таких приуныть от неудач и отчаяться до такой степени, что захочет свести с жизнью счеты, как он немедля скажет себе: «Нищий, искусанный вшами, все лучше мертвеца, изъеденного червями». И, поплевав на руки, снова возьмется за работу, сколь бы ни была она тяжкой, отнюдь не проклиная ни Господа, ни природу, ни род человеческий^ Рассудите же, сударыня, неужто такие добрые люди заслуживают погибели?
У них есть свои недостатки, я это признаю, да вы и сами легко отыщете тех, кто пьянствует, не зная удержу, или столь охотно предается любовным утехам, что нарушает всякие общественные приличия. Но ведь за подобные грехи не казнят, не правда ли?
Мне, сударыня, не известно, что решили вы сделать с нами, и я высказываюсь единственно на основании слухов о тех планах, каковые вам приписывают. Нас, меня и моих друзей, охватывает настоящий ужас при мысли о 13 июня, ют почему мы решились написать вам это смиренное прошение.
Если нам так уж необходимо совершенно исчезнуть, мы не станем плакать, понимая, что ни дождь, ни гром не остановишь пером. Накануне рокового дня мы обнимем наших подружек немножко крепче обычного и, если женщины заплачут, не станем бранить их за это; чтобы они развеселились, каждый скажет своей, что она и есть самая красивая, а чтобы они спели нам, мы нальем им старого вина, если оно еще останется, а если нет — тогда молодого. А на следующий день, клянусь честью, мы дождемся взрыва и умрем с песней на устах.
Но истинно говорю, не могу поверить в то, что нам предстоит сгинуть всем, и добрякам и злыдням! Быть того не может. Если бы это укладывалось в моей голове, тогда мы, при всем нашем уважении к вам, обратились бы за помощью к Господу.
Ибо, сударыня, есть высший судия, он главнее вас, и у нас есть еще время подать ему кассационную жалобу.