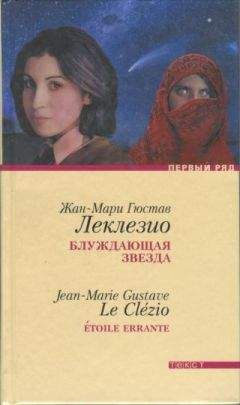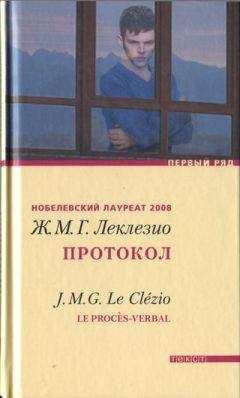А назавтра послышалась музыка, она звучала пониже площади, на вилле в саду с шелковицей. Эстер побежала туда со всех ног. Несколько женщин стояли, прислушиваясь у ограды, и дети там тоже были. Эстер вскарабкалась, цепляясь за прутья решетки, на свое привычное место в тени дерева и увидела господина Ферна: он сидел в кухне за своим черным пианино. «Они принесли его назад! Вернули господину Ферну пианино!» — хотелось Эстер крикнуть стоявшим внизу людям. Но в этом не было необходимости. На всех лицах было одно и то же выражение. Все больше народу собиралось у ограды послушать игру господина Ферна. И то сказать, никогда еще он так не играл. Через приоткрытую дверь из полутемной кухни выпархивали ноты, взмывали в легком воздухе, наполняя всю улицу, всю деревню. Пианино, слишком долго молчавшее, казалось, играло само. Музыка лилась, летела, сияла. На ограде в тени шелковицы Эстер, почти не дыша, слушала стремительные ноты, музыкой была полна ее грудь, все ее тело. Она слушала и думала, что теперь все будет, как прежде. Она снова сможет сидеть рядом с господином Ферном, нажимать на клавиши, учиться читать ноты с приготовленных им листков. Все будет хорошо, раз пианино господина Ферна вернулось. Теперь люди перестанут бояться и ни на кого не будут держать зла. И Рашель снова выйдет на улицу, пойдет за покупками для своих родителей, и ее волосы опять заблестят на солнце, как красная медь. Утром она встретит Эстер у фонтана, они сядут в тени платанов и будут долго-долго разговаривать. Она расскажет, как потом, когда кончится война, станет певицей и будет выступать в Вене, Риме, Берлине. Такова была музыка господина Ферна: она останавливала время и заставляла его течь вспять. Потом, закончив играть, господин Ферн вышел на порог. Он посмотрел на всех, щуря глаза от солнечного света и подергивая бородкой. Лицо его странно сморщилось, казалось, он вот-вот расплачется. Он сделал шаг или два навстречу стоявшим на улице людям, развел руками и чуть склонил голову, словно говоря: спасибо, спасибо, друзья. И люди зааплодировали — сначала несколько мужчин и женщин, которые стояли поближе, а потом остальные, даже дети захлопали в ладоши и закричали «Браво!». И Эстер тоже аплодировала и думала, что все точь-в-точь как было в Вене, когда Генрих Ферн играл перед господами во фраках и дамами в вечерних платьях в пору своей молодости.
Была пятница, когда Эстер впервые вошла в синагогу в верхней части деревни. Там справляли шабат. Так было каждую неделю: по пятницам Яков, помощник старого ребе Ицхака Салантера, ходил по улицам и стучал в двери тех домов, где жили евреи. В дом Эстер он тоже всегда стучал, но никто не ходил на шабат, потому что ни ее мать, ни отец не были религиозными. Когда Эстер однажды спросила, почему они не ходят в синагогу, отец ответил просто: «Можешь идти, если хочется». Он всегда считал, что религия — дело вольное.
Несколько раз Эстер подходила к синагоге, когда мужчины и женщины собирались там на шабат. В открытую дверь она видела горящие свечи, слышала ровный гул молитв. Сегодня она приближалась к этой двери с той же опаской. Женщины, одетые в черное, проходили мимо, не глядя на нее, спешили внутрь. Эстер узнала среди них Юдит, свою соседку по парте. На голове у нее была черная косынка; входя вместе со своей матерью, она оглянулась и незаметно помахала Эстер.
Эстер довольно долго стояла на другой стороне улицы, глядя на открытую дверь. А потом, неожиданно для самой себя, вдруг направилась к этой двери и вошла. Уже стемнело, и внутри было сумрачно, как в пещере. Эстер бочком двинулась к ближайшей стене, словно хотела спрятаться. Перед ней стояли женщины, закутанные в черные платки; никто не обращал на нее внимания, только одна или две девочки обернулись. Черные детские глаза особенно ярко блестели в полутьме. Вдруг одна из девочек — ее звали Сесиль, и она тоже ходила в школу господина Зелигмана, — подошла к ней, взяла ее за руку и потащила в середину зала. Эстер прошла вперед, туда, где собрались молодые девушки. Оказавшись среди них, она почувствовала себя лучше.
Вокруг Якова суетились женщины, устанавливали пюпитр, приносили воду, расставляли золоченые подсвечники. Вдруг где-то засиял свет, и все взгляды обратились в ту сторону. Словно звезды вспыхивали свечи одна за другой, сначала слабо мерцающие, готовые вот-вот погаснуть, но мало-помалу язычки пламени разгорались, отбрасывая длинные лучи. Женщины со свечами в руках переходили от светильника к светильнику, и света становилось все больше. Одновременно раздался гул голосов, глухой, точно из-под земли, и Эстер увидела, как в зал входят люди, мужчины и женщины, а впереди шел старый ребе Ицхак Салантер. Они вышли на середину, разговаривая на непонятном языке. Эстер с удивлением смотрела на белые покрывала, наброшенные на головы и ниспадавшие до пола. Свет разгорался, гомон нарастал. Теперь вошедшие говорили громко, протяжно, нараспев, и голоса женщин в черном отвечали им, они звучали нежнее. Голоса чередовались, и казалось, будто шум ветра или дождя наполняет зал, то убывая, то усиливаясь вновь, бьется о тесные стены и колеблет пламя свечей.
Вокруг Эстер девушки и девочки, обратив лица к огням, повторяли непонятные слова и раскачивались взад-вперед. От запаха оплывших свечей, смешавшегося с запахом пота, от ритмичного пения кружилась голова. Эстер не смела шевельнуться, но, сама того не сознавая, тоже начала раскачиваться взад-вперед, в такт окружающим женщинам. Она пыталась прочесть по их губам слова незнакомого, такого красивого языка, который отзывался в самой глубине ее существа, словно каждый слог будил воспоминания. Дурнота накатывала на нее в этой пещере, полной тайн, когда она смотрела на огоньки свечей, звездами сиявшие в сумраке. Никогда она не видела такого света, никогда не слышала подобного пения. Голоса взмывали, набирая силу, затихали, звучали вновь в другом конце зала. Иной раз чистый женский голос один выводил длинную фразу, Эстер смотрела в ту сторону, на закутанную в покрывало фигуру, которая раскачивалась сильней и, раскинув руки, вся подавалась к свету. Когда она умолкала, слышалось глухое бормотание зала: аминь, аминь. Потом откуда-то откликался мужской голос, и вновь звучали непонятные слова, похожие на музыку. Впервые в жизни Эстер поняла, что такое молитва. Она не знала, как это вошло в нее, откуда, но в ней крепла уверенность: это и глухой гул голосов, вдруг завораживающий незнакомым языком, и мерное раскачивание тел, и свечи, сияющие звездами в теплом и полном запахов сумраке. Это подхватывающий вихрь слов.
Здесь, в этом зале, ничто больше не имело значения. Ничто не страшило — ни гибель Марио, ни немцы, уже приближавшиеся к долине на своих танках, ни даже тот сон об отце, как он идет, такой высокий, на рассвете к горам и исчезает, скрывается в траве, словно уходит в смерть.
Эстер медленно раскачивалась, вперед-назад, неотрывно глядя на пламя свечей, и голоса, мужские и женские, тонкие и густые, отзывались и перекликались в ней, произнося слова на языке таинства. И Эстер чувствовала: ей все под силу, она преодолеет и время, и горы, подобно той черной птице, что показал ей отец, улетит за моря, туда, где рождается свет, в Эрец Исраэль.
* * *
В субботу 8 сентября Эстер проснулась от шума. Раскатистый гул доносился со всех сторон сразу, разливался по улицам деревни, проникал в каждый дом. Эстер встала и в полумраке своей ниши увидела, что кровать родителей пуста. В кухне мать, уже одетая, стояла у открытой двери. При виде ее глаз у Эстер ёкнуло сердце: они были полны тревоги, и этот взгляд словно отвечал раскатам за окном. «Твой отец ушел ночью, он не хотел тебя будить», — ответила Элизабет на молчаливый вопрос Эстер. Гул, то удаляющийся, то нарастающий, казался нереальным. «Это американские самолеты, — сказала Элизабет, — они летят в Геную… Итальянцы проиграли войну, подписано перемирие». Эстер прижалась к матери. «Значит, итальянцы уйдут отсюда?» Тревога поселилась и в ней, словно льдом сковала руки, ноги. Дышать стало трудно, думать тоже. Гул самолетов стихал, раскаты звучали где-то вдали, точно уходящая гроза. Но теперь Эстер услышала другой, более отчетливый шум. Это ревели моторы итальянских грузовиков, поднимавшихся из долины к деревне: они бежали от немецкой армии. «Война не кончилась, — медленно произнесла Элизабет. — Скоро придут немцы. Надо уходить. Нам всем надо уходить отсюда». Рев грузовиков был теперь оглушительным, они заходили на последний поворот перед деревней. Элизабет подняла собранный чемодан, стоявший у двери, старый кожаный чемодан, в котором она хранила все мало-мальски ценное. «Иди оденься. Надень что потеплее и хорошие ботинки. Мы пойдем через горы. Отец нас потом догонит». Она заметалась, натыкаясь на стулья, в поисках какой-то нужной вещи, которую забыла взять. Эстер оделась быстро. Поверх свитера накинула доху из овчины — ее оставил Марио на спинке стула в тот самый день, когда он погиб. Голову повязала черным платком, который дала ей мать.