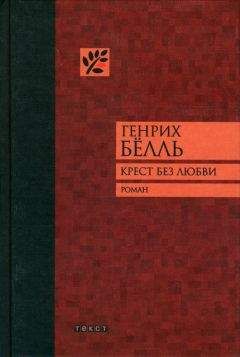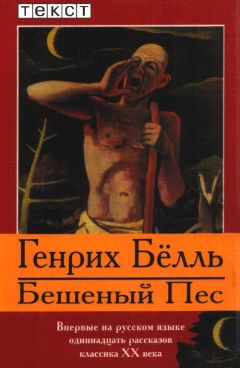Здание представляло собой убийственную, поражающую своей грандиозностью казенщину; оно было сложено из огромных каменных глыб и плит, без уголков и закоулков, тяжелое и давящее, невероятно дорогостоящее и угнетающее своей монотонностью. Уж не в этих ли слишком просторных коридорах и лестничных пролетах притаились мрачная безысходность и кровавая растерянность власти?
В приемной Ганса встретила пышнотелая блондинка в мундире — светло-коричневый бархатный жакет и синяя юбка. Улыбнувшись, она жестом предложила ему сесть. «Вам придется минуточку подождать, господин Бахем», — сказала она, откровенно строя ему глазки и продолжая улыбаться, лицо у нее было смазливое, но уже слегка оплывшее. Он молча кивнул и уселся в кресло, поставленное так, чтобы блондинка не теряла его из поля зрения. Воцарилась глубокая и тягостная тишина. Ганс почти физически ощущал, как пылкие желания этой девицы буквально опутывают его. Тут он и вспомнил, где именно его преследовали эти улыбчивые глазки и что всегда, когда он в этом доме имел дело с женщинами, непременно сталкивался либо с безудержными сексуальными притязаниями, либо со столь же обидно-прохладным, якобы товарищеским отношением… В глубокой тишине комнаты слышалось только тихое шуршание бумаги, на которой девица что-то усердно строчила карандашом; ее роскошные золотистые волосы ниспадали широкой волной на плечи и даже касались столешницы. Когда она время от времени отрывалась от работы и с неизменной улыбкой поднимала на него глаза, то явная порочность ее взгляда мгновенно разрушала эту почти идиллическую картину.
Резкий звонок заставил их обоих вздрогнуть; девица сделала Гансу знак и, коротко постучав, открыла дверь в кабинет Гордиана. Очутившись в огромном, квадратном, ярко освещенном помещении, Ганс с легким испугом огляделся вокруг, словно почувствовал себя запертым в камере, ибо тяжелая дверь за ним сама собой бесшумно закрылась.
Кабинет Гордиана был поразительно прост, единственным украшением пустых побеленных стен служил темный портрет главы государства в натуральную величину — черная челка, поднятый воротник плаща, серьезный и тяжелый взгляд устремлен вдаль. Скромной величины письменный стол почти терялся рядом с этим портретом. На заурядной физиономии Гордиана — карие круглые глаза, маленький рот с пухлыми губами и чувственный нос отъявленного развратника — производили впечатление только необычайно густые и широкие черные брови, которые придавали лицу некую грозность и даже слегка демонический вид. Гордиан был в коричневом мундире с красным кантом знака различия на петлицах и вышитыми золотом дубовыми листьями, на груди множество орденов и медалей. Он поднял руку в ответ на приветствие, однако не встал и, бросив короткий неодобрительный взгляд на штатский костюм Ганса, жестом предложил ему сесть. В атмосфере комнаты чувствовалась странная смесь банальности и величия, густые клубы сигаретного дыма словно туманом окутывали все вокруг.
За окном открывался вид на Рейн, над которым поверх могучих крон высоких деревьев сгущалась вечерняя темнота…
Грубым, слегка осипшим голосом Гордиан начал произносить короткие рубленые фразы, каждая из которых звучала как приказ. И Ганс уже с первых слов понял, как глупо было надеяться, что его вызвали для какого-то обсуждения; тут существовали только приказы, их можно было выполнять или отказываться от выполнения… А что означает такой отказ, он знал.
— Вам известно, что для внешнеполитических целей нашего фюрера нет ничего важнее, чем абсолютное и ничем не ограниченное обладание властью внутри страны. Мы для того и существуем, чтобы создавать и обеспечивать эту власть. Если вспомнить о том, в каком состоянии находился народ, когда фюрер пришел к власти, то мы можем быть довольны. Тем не менее еще есть подрывные элементы… И вы сами знаете, что один-единственный интеллигент, который выступает на тайных сходках с поучениями или даже читает тексты из Библии, давая им сомнительные толкования, что один такой интеллигент опаснее, чем тысяча тупиц, которые вопят во все горло, но моментально становятся тише воды, стоит им только получить от полицейского пару затрещин. Полгодика в концентрационном лагере превращает некоторых из них в самых ярых сторонников и почитателей нашей идеи. Так или иначе, но мы должны сейчас заняться одной группой таких интеллектуалов; мы обязаны ее уничтожить. Послушайте, — он пригвоздил Ганса к месту фанатичным взглядом своих круглых глаз, — сегодня в половине десятого, а сейчас половина девятого, вы встретитесь в Мертенхайме на Шпаррштрассе с отрядом нашей патрульной службы перед домом, который, как нам известно, служит местом собраний некоего молодежного кружка бывших активных сторонников Христа. Там они беседуют по так называемым «текущим вопросам». Один из наших осведомителей сегодня участвует в этой встрече, дом будет полностью окружен, и всю эту банду схватят, так сказать, на месте преступления — то есть застигнут за антигосударственными происками, и именно вы лично туда ворветесь первым, передадите всю шайку патрульным и обеспечите, чтобы сегодня же вечером все участники сборища прибыли сюда для допроса. Машина в вашем распоряжении.
У Ганса было такое чувство, будто его жестоко бьют кулаками по лицу, пытаясь загнать в промерзшее помещение с голыми стенами без дверей и окон, из которого нет никакой возможности убежать, кроме как попытаться вскарабкаться по гладким стенам, хоть и знаешь, что это бессмысленно и ты все равно рухнешь обратно на пол… Он впал в полный ступор: роль охранника настолько не входила в его служебные обязанности, что он даже подумал, уж не подвох ли все это…
И сделал слабую попытку возразить:
— Разрешите узнать, нельзя ли патрульным самим выполнить это задание?
— Нельзя, — отрезал Гордиан. — Вы вообще не имеете права задавать вопросы. Но я все же вам отвечу. — Он встал и подошел вплотную к Гансу, который тоже вскочил. Уставившись ледяным взглядом на Ганса, Гордиан сказал: — Вы должны окончательно определить вашу позицию. Не ради этих людей, а ради нас, чтобы мы знали, действительно ли вы готовы сделать все для блага Германии, ибо речь идет о ее благе! — Строгое выражение его лица немного смягчилось. — И от этих, кажущихся столь низкими обязанностей охранника и палача на самом деле зависит судьба Германии. Знаете, в офицерских школах от молодого пополнения требуют не только чистить уборные, но и изучать законы стратегии. И из этого молодняка выросли генералы, которые и не думают стыдиться столь унизительных обязанностей… А кроме того, не забывайте, — и он дружески похлопал Ганса по плечу, — на карту действительно поставлена судьба Германии! — Он повернулся к столу и протянул Гансу какую-то бумагу: — Вот подтверждение ваших полномочий.
Ганс больше не решился возражать, ему уже казалось правильным, что для полной отдачи любому делу необходимо полное смирение. Но разве он боялся этого? Ах, Германия! Ему чудилось, что на его плечи ложится приятная тяжесть, а изнутри его держит какая-то высшая сила и не хочет его отпускать…
Он молча стоял и ждал, а Гордиан опять пристально вглядывался в него.
— Хорошо… Идите. Машина стоит перед караульным помещением.
Ганс поднял руку в нацистском приветствии и вышел. Вновь оказавшись в приемной, освещенной лишь приглушенным светом, где его опять встретила улыбкой блондинка, он сразу заметил контраст этой комнаты с красноватыми обоями и покрытым коврами полом с холодным и ярко освещенным кабинетом Гордиана, который он только что покинул. Он поспешно попрощался и помчался по коридорам и лестницам к караулке; там его уже ждал водитель машины, высокий, стройный парень с темно-русыми волосами и жесткими стеклянными глазами, облаченный в черный мундир элитных частей.
— Нам сегодня опять неплохой улов светит, верно? — спросил тот, смеясь и не вынимая сигареты изо рта, когда Ганс сел рядом с ним в машину.
Пока они ехали по предместью в центр города, а потом сквозь лабиринт узких улочек Старого города по мосту в Мертенхайм, Ганс на все реплики водителя отвечал односложно. Спустя некоторое время они остановились на скупо освещенной улочке, похожей на деревенскую, перед небольшой пивной, а едва вышли из машины, сразу почувствовали ароматы лесов и полей. Часовой в черном мундире, стоявший перед дверью, поприветствовал их и отвел в заднюю комнатку, где команда из семи человек играла в карты за пивом и сигаретами, громко распевая какую-то песню; они встретили Ганса так шумливо и радостно, что ему показалось, будто им наскучило бездельничать. Ганс спокойно предъявил им свою бумагу… ему все здесь было противно: и это предвкушение явно неопасного приключения, и чуть ли не кровожадный азарт в глазах; он чувствовал, как безжалостный кулак решительно подталкивал его совершить что-то непоправимое, но тем не менее мрачно согласился с предложением начать операцию немедленно. И когда они шли в кромешной тьме по деревенской улице — Ганс и начальник отряда впереди, — на него опять нахлынули сомнения и отвратительные чувства; банда за его спиной как бы направляла вперед, словно чувствовала его сопротивление и специально втягивала в самые грязные палаческие дела. Чем ближе подходили они к церкви, тем сильнее пронизывали его тревога и страх, что его заставят схватить руками нечто неописуемо отвратительное… Было темно и так необыкновенно тихо, что, хотя никто не произнес ни слова, Ганс чувствовал охотничий азарт своих спутников. Не успев ничего сообразить, он оказался втиснутым в какой-то коридор, и под звуки моцартовской мелодии, внезапно зазвучавшей на верхнем этаже и показавшейся ему такой до боли знакомой, перед его глазами вновь выплыло лицо матери… Дверь рывком распахнулась, яркий свет ослепил его, и он, шатаясь, вошел в небольшую комнатку. Первое, что он увидел, было лицо Йозефа, который стоял под большим черным распятием на фоне стены, выкрашенной в желтый цвет; его глаза были расширены от ужаса, и леденящий страх вздрагивал в них, точно в глазах ребенка, на которого напали дикие звери…