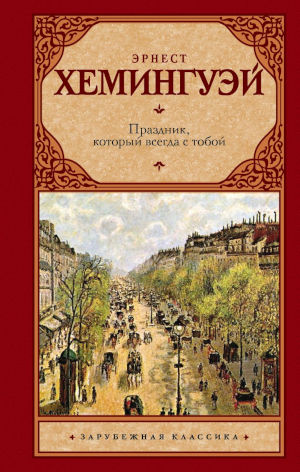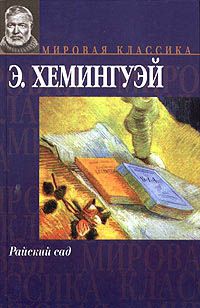через толстые стекла очков изучал меню, держа его на уровне глаз; рядом с ним — Нора, она ела мало, но с аппетитом, напротив — Джорджио, худой, щеголеватый, с гладко прилизанным затылком, и Лючия, почти еще девочка, с тяжелой копной курчавых волос; вся семья говорила по-итальянски.
Пока мы стояли, я думал, можно ли назвать просто голодом то ощущение, которое мы испытали там, на мосту. Я задал этот вопрос жене, и она сказала:
— Не знаю, Тэти. Есть так много разновидностей голода. Весной их еще больше. Но теперь это уже позади. Воспоминания — тоже голод.
Я не все понял из ее слов; глядя в окно ресторана на официанта с двумя tournedos [15] на тарелке, я обнаружил, что меня мучает самый обычный голод.
— Ты сказала, что нам сегодня везет. Нам действительно повезло. Но ведь нам подсказали, на кого ставить.
Она засмеялась.
— Я не скачки имела в виду. Ты все понимаешь буквально. Я сказала «везучие» в другом смысле.
— Чинка, по-моему, скачки не интересуют, — сказал я, снова проявляя непонимание.
— Да. Они интересовали бы его лишь в том случае, если бы он сам принимал в них участие.
— Ты не хочешь больше ходить на скачки?
— Хочу. И теперь мы сможем ходить на них когда вздумается.
— Нет, правда хочешь?
— Конечно. Ты ведь тоже хочешь, да?
Попав наконец к Мишо, мы прекрасно пообедали, но когда мы поели и о еде уже не думали, чувство, которое на мосту мы приняли за голод, не исчезло и жило в нас, пока мы ехали на автобусе домой. Оно не исчезло, когда мы вошли в комнату и легли в постель, и когда мы любили друг друга в темноте, оно тоже не исчезло. И когда я проснулся и увидел в открытые окна лунный свет на крышах высоких домов, оно тоже не исчезло. Я отодвинулся, чтобы луна не светила мне в лицо, но заснуть уже не мог и лежал с открытыми глазами и думал об этом. Мы оба дважды просыпались за ночь, и теперь жена крепко спала, и на лицо ее падал свет луны. А я все думал об одном и том же и по-прежнему ничего не мог понять. А еще утром я видел обманную весну, и слышал дудку пастуха, гнавшего коз, и ходил за утренней программой скачек, и жизнь казалась такой простой.
Но Париж очень старый город, а мы были молоды, и все там было не просто — и бедность, и неожиданное богатство, и лунный свет, и справедливость или зло, и дыхание той, что лежала рядом с тобой в лунном свете.
В этом году и на протяжении еще нескольких лет мы много раз бывали вместе на скачках, после того как я кончал утреннюю работу, и Хэдли это нравилось, а иногда даже захлестывало ее. Но это было совсем не то, что взбираться к высокогорным лугам, лежащим за поясом лесов, или возвращаться поздним вечером в шале, или отправляться с Чинком, нашим лучшим другом, через перевал в еще неведомые места. И интересовали нас не сами скачки, а возможность играть. Но мы называли это увлечением скачками.
Скачки никогда не разделяли нас — на это были способны только люди; но долгое время они были нашим близким и требовательным другом. Во всяком случае, так приятнее было думать. И я, праведно негодовавший на людей за их способность все разрушать, был снисходителен к этому другу — самому лживому, самому прекрасному, самому влекущему, порочному и требовательному — потому что из него можно было извлекать выгоду. Для того чтобы скачки стали источником дохода, нужно было отдавать им все время, а его у меня не было. Но я оправдывал свое увлечение тем, что писал о нем, хотя в конце концов все, что я писал, пропало и из рассказов о скачках уцелел всего один, потому что он путешествовал тогда по почте.
Потом я стал чаще ходить на скачки один, и они меня все больше увлекали и затягивали. Как только представлялась возможность, я ездил на оба ипподрома — в Отейль и Энгиен. Для того чтобы ставить более или менее наверняка, надо было посвящать скачкам все время, но так жить было невозможно. Расчеты на бумаге остававшись расчетами на бумаге. И результаты их можно было узнать из любой газеты.
В Отейле лучше всего было наблюдать стипль-чез с верхних трибун, и приходилось взлетать по ступенькам, чтобы успеть увидеть, как идет каждая лошадь, и заметить лошадь, которая могла бы выиграть, но не выиграла, и понять, почему и как это произошло. Надо было следить за ставками и за всеми изменениями котировки каждый раз, когда бежала лошадь, которую ты изучал. И надо было правильно оценить, как она работает, чтобы угадать момент, когда на нее поставят знатоки. И в этом случае она тоже могла проиграть, но ты уже знал, каковы ее шансы. Это было трудной задачей, но как чудесно было изо дня в день смотреть скачки в Отейле, когда удавалось вырваться туда и присутствовать при честном соревновании великолепных лошадей. К этому времени ты уже знал ипподром как свои пять пальцев. В конце концов ты приобретал там массу знакомых: жокеев, и тренеров, и владельцев лошадей — и узнавал многих лошадей, и проникал в тайну многих других вещей.
Как правило, я ставил только на лошадь, которую знал, но иногда я открывал лошадей, в которых никто не верил, кроме тренеров и жокеев, и которые выигрывали заезд за заездом, а я ставил на них. В конце концов я перестал ходить на скачки, потому что они отнимали слишком много времени и затягивали меня, а, кроме того, я знал слишком много о том, что происходило в Энгиене и на других ипподромах, где устраивали гладкие скачки.
Я был рад, что перестал играть на скачках, но испытывал какую-то пустоту. В то время я уже знал, что, когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после чего-то хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Я вложил деньги, предназначавшиеся для скачек, в общий фонд, и мне стало легко и хорошю.
В тот день, когда я бросил скачки, я отправился на другой берег Сены, в отделение компании «Гаранти траст», которая в то время помещалась